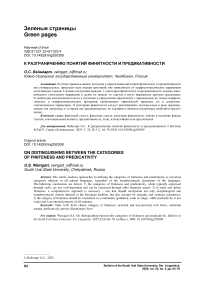К разграничению понятий финитности и предикативности
Автор: Вейнгарт О.С.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Зеленые страницы
Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ подходов к определению категорий финитности и предикативности как универсальных, присущих всем языкам категорий, вне зависимости от морфосинтаксических параметров естественных языков. Сделаны следующие выводы: 1) категории финитности и предикативности помимо канонического глагольного выражения в целом не зависят от глагола и могут выражаться другими средствами; 2) необходим комплексный подход к изучению и определению финитности с применением не только морфологических и морфосинтаксических критериев, свойственных европейской традиции, но и семантико-синтаксических параметров; 3) категорию финитности следует рассматривать континуально в виде градации, шкалы или диапазона, в то время как предикативность не скалярна и является внутренним свойством предложения.
Финитный глагол, финитная клауза, категория финитности, личная и неличная формыглагола, сентенциальные актанты, предикативность, лицо, иллокутивная сила предложения
Короткий адрес: https://sciup.org/147252057
IDR: 147252057 | УДК: 81’221.22+81’225.4 | DOI: 10.14529/ling250309
Текст научной статьи К разграничению понятий финитности и предикативности
Понятия предикативность и финитность изначально появились в лингвистике в рамках европейской традиции описания грамматического устройства классических индоевропейских языков – сначала древнегреческого и латинского, а затем и национальных европейских языков. Позже эти термины начали широко использоваться и при описании грамматики других, неиндоевропейских языков – инкорпорирующих австроазиатских, полисинтетических кавказских и америндских, многочисленных автохтонных языков Австралии и т. д. Однако не только генетически, но прежде всего структурно все эти языки существенно отличались от привычного индоевропейского «эталона».
Так, с течением времени, с одной стороны, неизбежное распространение классической теории и стремление охватить все большее количество языков, все их структурные типы, а с другой – постоянное дополнение классической теории сведениями из самых разных языков привели лингвистов к необходимости постепенного пересмотра и доработки целого ряда ключевых понятий, связанных с уточнением дефиниций категорий финитно-сти и предикативности , а также в целом подходов к изучению естественного языка. Так, данные категории оказались в самом центре процесса их переосмысления и вплоть до сегодняшнего дня не перестают вызывать интерес исследователей. Обилие теорий, вызванное стремлением пролить свет на роль финитности и предикативности во внутреннем устройстве и функционировании языка, приводит подчас к противоположному эффекту – к их отождествлению вплоть до неразличения грани между ними.
Задача данной статьи – уточнение и разграничение понятий финитность и предикативность через призму разноструктурных языков и некоторых подходов, предпринимаемых учеными на современном этапе развития лингвистической науки.
Финитность
Как известно, первые упоминания о финит-ности восходят еще к грамматике Присциана (500 год н. э.). Он различал так называемые голые глаголы и существительные, которые только определяют общие свойства объектов или действий, а также глаголы и существительные, которые применяются непосредственно к конкретному случаю. Значение этих последних было, таким образом, как бы «ограничено» отображаемой ими реальностью, откуда и происходит термин finitum . За 1500 лет исследований изменилось, пожалуй, только то, что этот термин больше не используется в отношении существительных. Отныне финитность – это сугубо глагольная характеристика и, по мнению В. Кляйна, одно из тех понятий, которое используется всеми, но до конца не понимается никем [14, с. 11].
Дальнейшее смещение представления о фи-нитности в сторону глагола во многом было связано с морфосинтаксическими особенностями классических индоевропейских языков, на базе которых и делались первые попытки описания данной категории, а именно – наличием в этих языках глагольного спряжения. Однако позже было обнаружено, что, к примеру, китайский язык также имеет специальные показатели для маркирования финитных и нефинитных клауз. Эти показатели не привязаны к глаголу как таковому, ибо являются атрибутом всей клаузы.
К примеру, Чжан Нин в мандаринском диалекте китайского языка выявила ограничения на распределение частиц ne, le и laizhe , которые могут встречаться лишь в некоторых типах встроенных, зависимых предложений [16]. В своем исследовании Чжан Нин приходит к выводу, что эти частицы имеют ярко выраженное аспектуальное значение и являются так называемыми компле-ментайзерами финитной клаузы, поскольку по сути участвуют в её оформлении. Ограничения на распределение частиц указывают на то, что они являются именно финитными маркерами и не могут употребляться в других типах встроенных предложений, аналогичных нефинитным клаузам в индоевропейских языках, выступающим в роли сентенциальных актантов [16, с. 32]. Наряду с этим Чжан Нин указывает на то, что финитность обращена преимущественно к иллокутивному аспекту предложения и определяется в гораздо б о льшей степени его семантико-синтаксическими свойствами, нежели только наличием морфологических маркеров глагола. В этом и проявляется признак универсальности данной категории, свойственной всем языкам и специфичной для языка в целом.
Следовательно, финитность – это не периферийное свойство некоторых флективных лин-гво-семиотичесих систем, а фундаментальный принцип организации и функционирования естественных языков, что находит отражение не только непосредственно в синтаксисе, но в семантике и в прагматике.
По мнению В. Кляйна, для того чтобы высказывание имело иллокутивную силу, например, указывало на утверждение чего-либо, оно должно кодировать три компонента смысла:
-
1) тематический компонент. Он обычно включает «тематическое время», которое может предшествовать, следовать или быть одновременным времени ситуации;
-
2) нефинитная основа предложения. Это сам лексический глагол, аргументные позиции (валентности) которого заполнены соответствующим образом;
-
3) связующий компонент. Он связывает основу предложения с тематическим компонентом, например, указывая, что первое относится ко второму. Это и есть основная функция «финитности».
Здесь осуществляется выбор определенной позиции или интонационных сигналов [15, с. 341].
-
В . Кляйн пытается определить финитность как носителя ассерции, утверждая, что у нефинитных клауз ассертивная модальность либо устраняется, либо отсутствует [14, с. 18]. На первый взгляд, это утверждение кажется закономерным и логичным, ведь для высказываний с нефинитными клаузами характерна, как минимум, разноуровневая семантика главной и зависимой части, поскольку в их содержании отражается языковая и внеязыковая действительность соответственно.
Однако позже в работах А.А. Кибрика по кабардино-балкарскому языку было поставлено под сомнение данное определение финитности: в ходе проведенных исследований ученым, в частности, установлено, что в кабардино-балкарском языке нефинитно оформленные и одновременно нарративные клаузы точно так же могут выражать ас-серцию, как и финитные, и кодировать не только фоновую, но и основную линию изложения [6, с. 111]. Приведем пример из работы А.А. Кибрика:
-
[ ...] ol borule da alaj^a zijilip, ol ujnu basina minip, [...] alajda qaldila. (кабардино-балкар.яз.) -Эти волки собрались туда, поднялись наверх этого дома и остались там [6, с. 114].
Данная фраза из рассказа о ночной охоте волков за мальчиком содержит три глагольные формы, из которых первые две являются нефинитными (деепричастиями), а последняя – глаголом в личной форме. Вместе, по мнению А.А. Кибрика, они образуют некое макрособытие, своего рода динамический сценарий, где три события не просто следуют одно за другим, но семантически очень тесно связаны. Они представляют собой не только временн о е следование, но более тесную – каузальную – связь, когда предшествующее отношение каузирует, т. е. предопределяет и создает предпосылки для последующего. В противном случае, по наблюдению ученого, носитель кабардино-балкарского языка скорее выбрал бы финитные формы предиката для всех трех событий в рамках данного сценария, которые были бы связаны сочинительной связью. Таким образом, в данном примере мы видим, что нефинитные деепричастные клаузы в семантическом плане не подчинены финитной клаузе, хотя формально и зависят от нее.
В целом, исследуя возможность кодирования основной линии в кабардино-балкарском нарративе через нефинитные деепричастные клаузы, А.А. Кибрик показал, что корреляция между фи-нитностью vs. нефинитностью и главной линией vs. фоновой информацией полностью отсутствует. И, следовательно, ассерция не может быть признана жестким и безоговорочным критерием для определения финитности.
Важным шагом в развитии теории финитно-сти и поиске единой основы для описания столь разных языков стала шкала финитности, предло- женная Т. Гивоном в его работе «Syntax: A functional-typological introduction II» [13]. Изложенная в ней идея финитности как скалярного феномена представляет собой движение от прототипической финитной клаузы к нефинитной номина-лизации и имеет следующий вид:
-
– формы индикатива;
-
– формы сослагательного наклонения;
-
– причастия;
-
– инфинитивы;
-
– отглагольные существительные [13, с. 854].
По мере продвижения сверху вниз по данной шкале от более финитных к менее финитным элементам сначала утрачиваются маркеры времени, вида, модальности, затем грамматическое согласование предиката с подлежащим, далее мы видим появление показателей номинализации, особое падежное маркирование субъекта и объекта и, наконец, появление артиклей, предлогов и других приименных детерминативов.
Подход Т. Гивона позволяет, в частности, принять тот факт, что все языки, имея возможность в той или иной степени выражать предикативные отношения через нефинитные клаузы, довольно активно и регулярно прибегают к этому виду кодирования.
В целом сегодня, имея большой опыт изучения неиндоевропейских языков и семей, лингвисты стали активнее выдвигать все новые, альтернативные точки зрения относительно трактовки категории финитности. Так, В. Бизанг определяет финитность как грамматикализованное выражение независимого статуса предикации [11, с. 116]; П.М. Аркадьев, соглашаясь с данным утверждением, заключает, что если в языке есть выраженное морфосинтаксическое средство, с помощью которого слушающий может определить независимый статус грамматической конструкции, в этом языке есть противопоставление по финитности / нефи-нитности [1, с. 104–105]. В такой версии теории финитности она представляется уже не универсальной языковой категорией, а специфичной лишь для определенного круга языков. Возможно поэтому данная точка зрения не получила широкой поддержки.
А.А. Кибрик делает акцент на понимании грамматической природы феномена финитности в силу его связи с дискурсивными функциями. Как уже отмечалось выше, в своем исследовании кабардино-балкарского языка ученый среди прочего отмечает, что в тех случаях, когда говорящий хочет подчеркнуть не только временнýю, но и каузальную связь клаузы с последующим событием или событиями, он использует нефинитное (деепричастное) оформление предиката [6, с. 113].
Подводя итоги анализа подходов к определению финитности, можно сделать следующие выводы: 1) несмотря на то, что индоевропейская традиция последовательного противопоставления морфологических и морфосинтаксических пара- метров финитности vs. нефинитности глагола и клаузы является не универсальным эталоном, а лишь частным случаем, основанным, по сути, на обращении к одному из возможных языковых типов, сама категория финитности – универсальна, так как связана с иллокутивным аспектом предложения, а значит, присуща всем языкам; 2) необходим комплексный подход к изучению и определению финитности с применением не только морфологических и морфосинтаксических, но и множества семантико-синтаксических параметров; 3) категория финитности должна рассматриваться континуально в виде градации, шкалы или диапазона языковых единиц, исходя из структурных особенностей каждого из рассматриваемых языков.
Предикативность
Согласно определению ЛЭС, предикативность – это синтаксическая категория, определяющая функциональную специфику основной единицы синтаксиса – предложения; ключевой конституирующий признак предложения, относящий информацию к действительности и тем самым формирующий единицу, предназначенную для сообщения; категория, противопоставляющая предложение всем другим единицам, относящимся к компетенции синтаксиса [3, с. 392].
Как следует из приведенного определения, предикативность, в отличие от финитности, – категория привативная, а не градуальная. Она противопоставляет предложение всем другим единицам – не предложениям. И раз ей не свойственна скалярность, то мы не можем признавать единицу, мыслимую в дискурсивной цепи равной элементарному предложению, «полупредикативной». Заметим, что термин «полупредикативная единица» в своей широко известной «Теоретической грамматике французского языка» [4] употреблял В.Г. Гак, имея при этом в виду как структурное оформление предикативной синтагмы, т. е. актуализацию предложения без эксплицитно выраженного предикативного ядра [4, с. 553], так и собственно наличие «полупредикативных отношений» с точки зрения синтаксической связи [4, c. 719]. С учетом всех аспектов предложения данный термин стоит признать некорректным, в частности, применительно к предложениям с сентенциальными актантами при матричном предикате, ибо они представляют собой актуализацию полноценной предикативной (коммуникативной) единицы. Вместе с тем, рассуждая о статусе инфинитивных предложений, В.Г. Гак признает, что в целом любому «предложению свойственна полная предикативность, а не полупредикативность» [4, с. 728].
Кроме того, в ряде работ по синтаксису нередко можно увидеть определение нефинитных форм глагола (причастий, деепричастий, инфинитива), входящих в состав уже упомянутых сентенциальных актантов, а также различного рода ин- финитивных предложений, как «непредикативных» [10, с. 237, с. 256], что также вносит определенный диссонанс в общую концепцию предикативности. Подобные предложения с сентенциальными актантами всегда привлекали и продолжают привлекать внимание исследователей (П.М. Аркадьев [1], Н.В. Сердобольская [9], А.Б. Летучий [7] и др.) именно тем, что в них выявляется предикация без формальных глагольных признаков, т. е. без финитного глагола. При этом отсутствие финитного глагола в данных конструкциях никак не препятствует признанию их предикативными единицами (клаузами). Ведь еще в 1980-х гг. в рамках референциально-ролевой грамматики Р. Ван Валина и У. Фоли впервые была выдвинута идея не рассматривать предикативные категории исключительно как глагольные и не ставить знак равенства между выражением предикативных категорий и финитной формой глагола [5, с. 26].
Тот факт, что предложение может актуализироваться без глагола в личной форме, сближает категорию предикативности с категорией финит-ности, которая, проявляясь скалярно вплоть до субстантивного выражения и нефинитного оформления как зависимых, так и независимых предикатов, также не предполагает непременного наличия финитного глагола, что и приводит в ряде контекстов к отождествлению финитности и предикативности.
Наряду с концепцией В.В. Виноградова и его школы термином «предикативность» обозначают также сказуемость или свойство сказуемого как члена двусоставного предложения, выраженного финитным глаголом [2, 8]. Однако хорошо известны случаи транспозиции финитного глагола. Сравним примеры из французского языка и их переводы на русский язык:
-
1) Tiens, allez , on y va ! (фран. яз.) – Слушай, ну давай , пошли!
-
2) Il y a un je ne sais quoi de bizarre ! (фран. яз.) – Тут прямо чёрт знает что творится.
В приведенных примерах на французском и русском языках отчетливо видно, как глагол, стоящий в финитной форме, не просто не используется в канонической для него роли предиката, но функционально уже не является глаголом как таковым. В первом примере мы наблюдаем семантическую транспозицию финитного глагола в междометие, во втором – случай межуровневой транспозиции, представляющий собой субстантивацию вполне формально различимой клаузы. В любом языке с легкостью можно отыскать подобного рода случаи использования клауз в роли препозитивных атрибутов, ср. рус.: перекати поле, за здорово живёшь, не пришей кобыле хвост и пр.
Тем не менее главным (хотя и не единственным) средством формирования предикативности является категория наклонения. Благодаря ей сообщаемое предстает как реально осуществляющееся во времени (настоящем, прошедшем или будущем), т. е. характеризуется временной определённостью, или же мыслится в плане ирреальности – как возможное, желаемое, должное или требуемое, т. е. характеризуется временной неопределённостью [3, с. 392]. Кроме того, огромную роль играют интонация и просодия, а также категория лица, о которой будет сказано ниже.
Финитность vs. предикативность
Как уже было отмечено выше, понятия фи-нитность и предикативность нередко принято отождествлять как в отечественной, так и в зарубежной лингвистической литературе, а в ряде случаев они выступают в качестве взаимозаменяемых синонимов, что представляется не вполне оправданным, ибо все клаузы предикативны по содержанию, но не все из них являются финитными по форме. Таким образом, финитность – формальный критерий предложения, а предикативность – внутреннее свойство предложения.
Работа над описанием самых разных структурных типов языков неуклонно приводит исследователей-лингвистов к твердому осознанию необходимости четкого различения финитности и предикативности.
Финитность и предикативность сближает их: 1) универсальность – они присутствуют абсолютно во всех языках, 2) способность выражаться без финитного глагола и глагола в целом.
Тем не менее между этими категориями есть существенные отличия: 1) градуальность финит-ности и привативный характер категории предикативности, 2) категория финитности является скорее формальным критерием предложения, проявляющимся тем или иным способом в зависимости от морфосинтаксических параметров каждого конкретного языка, в то время как предикативность – это внутреннее свойство любой предикативной единицы для каждого конкретного языка.
Лицо
В индоевропейской традиции, и в русской грамматике в частности, финитную форму глагола принято называть личной , тем самым выводя на первый план именно категорию лица.
Данную категорию принято считать ключевой для определения финитности глагола, поскольку в индоевропейских языках все традиционно относимые к нефинитным формам глагола вер-боиды (причастия, инфинитивы, деепричастия, супины, герундивы, масдары и прочие конвербы и отглагольные имена) категории лица не имеют. Отсюда их название – неличные формы. Но, например, в венгерском языке инфинитивы, а в абхазском – деепричастия вполне могут изменяться по лицу [10, с. 233]. Таким образом, грамматическая категория лица в ее классической трактовке не может считаться универсальной для определения финитности.
Согласно концепции Гюстава Гийома, актуализация конституирующих элементов предложения – имени и глагола – реализуется, в числе прочего, через категорию лица, которая, в отличие от классической (грамматической) трактовки данной категории, является универсальной категорией, т. е. присущей не только глаголу, но и имени. Противопоставляя имя и глагол, Г. Гийом пишет о том, что глагольная семантема принадлежит не самой себе, как у существительного, а лицу, находящемуся вне семантемы, которое остается по отношению к глаголу чуждой его значению, но на которую он опирается – Г. Гийом использует термин опора – и которая, следовательно, является в случае глагола экзосемантиче-ким лицом, находясь во вне [12, с. 312]. Термины вклад и опора , по Г. Гийому, определяют образ динамического формирования слова на семантическом уровне, когда значение (вклад) выделяется из общей понятийной сферы и движется к своему семантическому стержню (опоре). В случае с существительным лицо является эндосемантиче-ским, так как находится как бы внутри сам о й именной семантемы и направлено внутрь себя, а не во вне, как у глагола.
В отличие от финитных форм глагола, для нефинитных форм, таких как, например, инфинитив, экзосемантическое лицо не актуализируется и существует лишь в виде некой потенции, реализация которой возможна в дальнейшем только в конкретной личной (финитной) форме. У нефинитных форм глагола указание на действие происходит при полном стирании и обобщении ранга лица (первое, второе, третье лицо не маркированы), но при этом свойственная глаголу двусостав-ность или, другими словами, наличие «экзосеман-тического лица», согласно концепции Г. Гийома, сохраняется [12, с. 315]. Таким образом, для кон-вербов, как и для глагола в целом, характерна бинарность, предполагающая, с одной стороны, наличие обобщенного лица вне глагольной семантемы и сам о й глагольной семантемы – с другой стороны. В результате нефинитные формы глагола занимают промежуточное положение между именем и финитным предикатом: как и финитный глагол, они имеют экзосемантическое лицо, но оно не маркировано и является обобщенным как у имени.
Такого рода концепция категории лица делает из нее ключевую, а значит и универсальную категорию не только для определения понятий финит-ность и предикативность , но и языка в целом, становясь как бы в один ряд с данными категориями и одновременно внося существенные нюансы в их определение.
Подобная трактовка лица во многом объясняет и универсальный характер нефинитных форм, и их широкое распространение в языках мира. Так, к примеру, инфинитив обладает феноменальной синтаксической полифункциональностью и всем спектром синтаксических ролей, выступая в функ- ции независимого предиката, предиката сентенциального актанта, функции зависимого предиката, в рамках составного глагольного сказуемого, а также в функции подлежащего, прямого и косвенного дополнения, обстоятельства и определения. Не случайно его можно обнаружить практически во всех языковых семьях как индоевропейских, так и неиндоевропейских языков, древних и современных. А предложения с сентенциальными актантами можно уже вполне изучать в типологическом аспекте, используя данные сотен разноструктурных языков, где данные конструкции были засвидетельствованы.
Заключение
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 1) категории финитности и предикативности, помимо канонического выражения через глагол в личной форме, в целом не зависят от форм и самого наличия глагола и могут выражаться и проявляться по-разному; 2) необходим комплексный подход к изучению и определению фи-нитности с применением не только морфологических и морфосинтаксических критериев, лежащих в основе традиционного подхода индоевропейского языкознания, но и семантико-синтаксических параметров с привлечением материала самых разных неиндоевропейских языков; 3) категорию фи-нитности целесообразнее рассматривать континуально в виде градации, шкалы или диапазона, в то время как предикативность не скалярна и является внутренним свойством предложения, противопоставляя и четко отделяя его от прочих единиц синтаксиса; 4) выход в русле концепции Гюстава Гиийома за пределы грамматического определения лица мог бы существенно дополнить и расширить представление как о внутреннем устройстве предложения, так и о его основных категориях – предикативности, финитности vs. нефинитности, имени и глаголе.