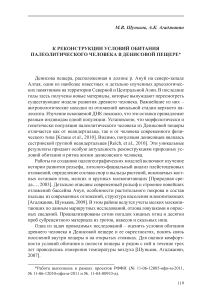К реконструкции условий обитания палеолитического человека в Денисовой пещере
Автор: Шуньков М.В., Агаджанян А.К.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология каменного века палеоэкология
Статья в выпуске: XVII, 2011 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521729
IDR: 14521729
Текст статьи К реконструкции условий обитания палеолитического человека в Денисовой пещере
Денисова пещера, расположенная в долине р. Ануй на северо-западе Алтая, один из наиболее известных и детально изученных археологических памятников на территории Северной и Центральной Азии. В последние годы здесь получены новые материалы, которые вынуждают пересмотреть существующие модели развития древнего человека. Важнейшие из них – антропологические находки из отложений начальной стадии верхнего палеолита. Изучение ископаемой ДНК показало, что эти останки принадлежат разным индивидам одной популяции. Установлено, что морфологически и генетически популяция палеолитического человека из Денисовой пещеры отличается как от неандертальца, так и от человека современного физического типа [Kra^^se et al., 2010]. Видимо, популяция денисовцев являлась сестринской группой неандертальцев [Reich, et al., 2010]. Эти уникальные результаты придают особую актуальность реконструкциям природных условий обитания и ритма жизни денисовского человека.
Работы по созданию палеогеографических моделей включают изучение истории развития рельефа, литолого-фациальный анализ плейстоценовых отложений, определение состава спор и пыльцы растений, ископаемых костных останков птиц, мелких и крупных млекопитающих [Природная среда…, 2003]. Детально описаны современный рельеф и строение новейших отложений бассейна Ануя, особенности растительного покрова и состав пыльцы из современных отложений, структура населения млекопитающих [Агаджанян, Шуньков, 2009]. В этом районе ведутся учеты мелких млекопитающих по данным маршрутных исследований, отлова ловушками и опросных сведений. Проанализированы сотни погадок хищных птиц и десятки проб субрецентного материала из гротов, навесов и скальных ниш.
Одна из задач проводимых исследований – оценить условия обитания древнего человека в Денисовой пещере и ее окрестностях, понять связь поселений внутри пещеры и на открытых стоянках. Для оценки комфортности условий обитания в полости пещеры и рядом с ней в течение трех лет проводились измерения температуры воздуха [Шуньков, Агаджанян, 2007].
В результате установлено, что размах суточных колебаний температуры воздуха внутри пещеры возрастает от галерей к центральному залу и пред-входовой площадке. Колебания температуры внутри пещеры значительно меньше, чем на открытых участках речной долины. Определенные закономерности выявляет анализ динамики среднемесячных дневных температур. Температурный режим в пещере и вне ее существенно изменяется на протяжении года. В зимние месяцы, даже при отсутствии искусственного подогрева, температура внутри пещеры на 5–7 °С выше, чем вне пещеры на открытом воздухе. В летние месяцы, напротив, температура в центральном зале пещеры на 5–10 °С, а в галереях на 10–15 °С ниже, чем в долине Ануя. Переломными являются середина марта и конец сентября, когда эти показатели близки между собой. Проведенный анализ позволяет сделать общий вывод: температурные условия в пещере, особенно в ее галереях в зимние месяцы комфортнее, чем на открытом воздухе. Летом, наоборот, температурный режим внутри пещеры менее комфортен, по сравнению с открытыми участками долины Ануя.
Картина существенно изменится, если допустить, что палеолитические обитатели пещеры пользовались огнем в ее полости. Хотя кострища и очажные конструкции в плейстоценовых отложениях пещеры не обнаружены, вместе с тем ряд косвенных наблюдений подтверждают это предположение. В процессе раскопок и последующей промывки грунта постоянно фиксируются мелкие угольки в осадках пещеры. В некоторых слоях отмечены пятна прокаленного грунта. Практически в каждом квадрате обнаружены обожженные кости крупных млекопитающих. Эти данные свидетельствуют, что палеолитические обитатели пещеры регулярно пользовались огнем.
Другое доказательство использования огня в полости пещеры – резкое уменьшение количества костей летучих мышей вверх по разрезу, начиная с уровня слоя 21. Количество останков летучих мышей по горизонтам слоя 22 колеблется от 20 до 40 % от общего числа костей мелких позвоночных. В отложениях слоя 21 их количество падает до 10 %, а выше по разрезу не превышает 3-5 %. Видовой состав других позвоночных и данные спорово-пыльцевого анализа не фиксируют принципиальных изменений климатического или биотопического режима. Единственный показатель, который существенно меняется на уровне слоя 21 - это количество каменных артефактов. В слое 22.3 каменные изделия не обнаружены. В слое 22.2 найдены единичные изделия, составляющие менее 1 % от общего числа находок. В слоях 22.1 и 21 их доля достигает 3%. Вверх по разрезу количество орудий возрастает, достигая 22 % в слое 11. Очевидна тесная обратная связь между активностью первобытного человека и плотностью населения летучих мышей. Только регулярное задымление пещерной полости могло отрицательно сказаться на сокращении их колонии.
Анализ динамики таксономического разнообразия Chiroptera позволяет сделать еще одно заключение о сезонной ритмике колонии летучих мышей и человека в пещере. На фоне общего снижения численности летучих мышей, костные останки одного вида, Myotis cf. blythii, сохраняют численность в отложениях и выше слоя 21. Большинство видов используют полости пещер только для дневного отдыха и зимовок. На период размножения они занимают различные укрытия вне пещер: дупла, расщелины в стволах деревьев, щели под корой и т.п. Только Myotis cf. blythii летом в период размножения заселяет пещеры, здесь выводит потомство и выращивает его. Сохранение численности этого вида в период накопления слоев 21–9 было возможно только при условии отсутствия задымления пещеры в летний период. Это обстоятельство позволяет предположить, что на летний период человек покидал пещеру.
К аналогичному выводу приводит анализ материалов по крупным млекопитающим из Денисовой пещеры. Он показал, что количественное соотношение костей медведя и гиены меняется вверх по разрезу В отложениях слоя 22 количество костей медведя значительно превышает количество костей гиены. На ранних этапах существования карстовой полости она использовалась преимущественно медведем для устройства берлог. Медведь занимал пещеру только в зимние месяцы, когда он впадал в спячку и приносил потомство. Весной медведь покидает берлогу в поисках корма. Большое количество костей медведя и, особенно, медвежат, в нижних слоях пещеры указывает на то, что ее полость регулярно использовалась в качестве берлоги. Но как только в верхнем горизонте слоя 22 фиксируется повышение активности палеолитического человека, количество костей медведя и, следовательно, частота посещения им пещеры резко падает. Это свидетельствует, что человек с этого времени регулярно заселял пещеру в зимние месяцы. Выявлена и другая закономерность. Количество костей гиены вверх по разрезу не уменьшается. Современная гиена нуждается в укрытии только в весенне-летний период для выведения потомства. Полученные данные показали, что она регулярно использовала полость пещеры для этих целей. Человек и гиена занимали пещеру, скорее всего, в разное время года. Для человека пещера была необходима зимой, как наиболее комфортное и безопасное жилище в условиях низких температур. Весной, когда температурный режим вне пещеры становился более благоприятным, человек покидал пещеру. В это время карстовую полость занимала гиена.
Направление движения и места сезонных лагерей палеолитических обитателей пещеры в летний период восстановлены по материалам открытых стоянок в длине Ануя. Среди них наиболее информативным объектом является многослойный памятник Усть-Каракол, расположенный на стрелке рек Ануй и Каракол, в месте, где открывается широкий обзор охотничьих угодий. Это позволяло первобытному человеку следить за передвижением стад копытных животных и с упреждением организовывать их промысел. Видовой состав костей млекопитающих на месте стоянки показал, что объектом охоты в плейстоцене были благородный олень, первобытный бизон, сибирский козел и горный баран [Барышников, 1998]. Кроме фаунистических остатков, хозяйственную деятельность человека на стоянке отражает послойное распределение каменных орудий, которые обнаружены в 15 из 18 плейстоценовых подразделений разреза. В средней части плейстоценовых отложений стоянки следы жизнедеятельности человека отсутствуют только в литологическом слое 12, а в отложениях слоя 13 обнаружено минимальное количество каменных артефактов. Вместе с тем в этих слоях отмечено максимальное количество костей суслика. Эти данные отражают, скорее всего, влияние активности человека на относительную численность колонии сусликов.
Фаунистический анализ состава крупных и мелких млекопитающих из отложений палеолитических стоянок показал, что в нем присутствуют, помимо автохтонных, центральноазиатские виды, которые проникали в долину Ануя с юга. Возможно, и основные кочевки палеолитических охотников проходили в южном направлении, в сторону Усть-Канской степной котловины.