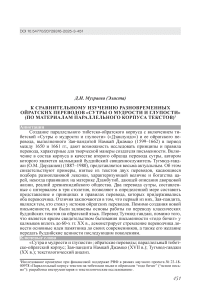К сравнительному изучению разновременных ойратских переводов «Cутры о мудрости и глупости» (по материалам параллельного корпуса текстов)
Автор: Д.Н. Музраева
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Создание параллельного тибетско-ойратского корпуса с включением тибетской «Сутры о мудрости и глупости» («Дзанлундо») и ее ойратского перевода, выполненного Зая-пандитой Намкай Джамцо (1599–1662) в период между 1650 и 1661 гг., дают возможность исследовать принципы и правила перевода, характерные для творческой манеры создателя письменности. Включение в состав корпуса в качестве второго образца перевода сутры, автором которого является калмыцкий буддийский священнослужитель Тугмюд-гавджи (О.М. Дорджиев) (1887–1980), представляется весьма актуальным. Об этом свидетельствуют примеры, взятые из текстов двух переводов, касающиеся подбора разноплановой лексики, характеризующей величие и богатства царей, некогда правивших на материке Дзамбутиб, дающей описания дворцовой жизни, реалий древнеиндийского общества. Два перевода сутры, составленные с интервалом в три столетия, позволяют в определенной мере составить представление о принципах и правилах перевода, которых придерживались оба переводчика. Отличия заключаются в том, что первый из них, Зая-пандита, являлся тем, кто стоял у истоков ойратских переводов. Помимо создания новой письменности, им были заложены основы работы по переводу классических буддийских текстов на ойратский язык. Перевод Тугмюд-гавджи, помимо того, что является ярким свидетельством бытования письменности «тодо бичиг» у калмыков вплоть до 60-х гг. XX в., демонстрирует стремление переводчика донести основные идеи памятника до своих современников, а также его желание передать буддийские ценности последующим поколениям.
«Сутра о мудрости и глупости», ойратские переводы, параллельный тибетско-ойратский корпус, Зая-пандита Намкай Джамцо (XVII в.), Тугмюд-гавджи (XX в.), текстологический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/149149413
IDR: 149149413 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-451
Текст научной статьи К сравнительному изучению разновременных ойратских переводов «Cутры о мудрости и глупости» (по материалам параллельного корпуса текстов)
ВведениеОб ойратских переводах из состава параллельного корпуса
В работе по созданию параллельного тибетско-ойратского корпуса важное место отводится подбору текстов первоисточников на тибетском языке и их ойратских переводов, составленных на «ясном письме» («тодо бичиг»). В основе этого круга текстов представлены разноплановые сочинения буддийской тематики из творческого наследия ойратского просветителя Зая-пандиты Намкай Джамцо (1599–1662). Его переводы, записанные на созданную им в 1648 г. письменность, представляют собой первые образцы ойратских переводов. Этот перечень текстов, впервые представленный в биографии просветителя, составленной одним из его учеников Раднабхадрой, не раз выступал объектом изучения в трудах по переводной литературе на монгольском и ойрат-ском языках (К.Ф. Голстунский, А.М. Позднеев, А.В. Попов, Ц. Дамдинсурэн,
Х. Лувсанбалдан, Г.И. Михайлов, В. Хайссиг, Д. Кара, Ш. Норбо, Г.Н. Румянцев, А.Г. Сазыкин, С. Халковик, Л. Хурэлбатар и др.).
Среди сложных вопросов, которые решали составители параллельного корпуса, были такие, как проблема идентификации ойратского перевода и его тибетского первоисточника, определение авторства перевода в отсутствие колофона (послесловия), установление принадлежности его Зая-пандите или его ученикам. Связано это было с тем, что сохранились и дошли до наших дней большей частью списки и копии текстов, выполнявшиеся на протяжении нескольких столетий, начиная со времени создания «ясного письма» (сер. XVII в.) вплоть до последней трети XX в. Для более поздних образцов текстов, зафиксированных на ойратской письменности, сохранившихся у калмыков, характерным является отход от классического «ясного письма», что явилось следствием изменений в развитии калмыцкого языка, влияния его разговорной формы на систему традиционного письма. Помимо этого, в поздних образцах текстов встречаются ошибки, являющиеся неминуемым следствием того, что «ясное письмо» вышло из активного употребления калмыков, а ему на смену пришли латиница и кириллица.
«Сутра о мудрости и глупости» и перспективы включения ее разновременных ойратских переводов в состав корпуса
Одной из особенностей параллельного тибетско-ойратского корпуса текстов стала возможность включения в состав корпуса не одного, а двух ойрат-ских переводных текстов того или иного тибетского памятника, а также прибавления дополнительного тибетского текста первоисточника, что предусматривалось созданной в рамках проекта программы выравнивания текстов.
Одним из сочинений, выступивших объектом перевода Зая-пандиты, явилась известная «Сутра о мудрости и глупости» или «Дзанлундо» (сокр. от тиб. ’dzangs blun zhes bya ba theg pa chen po’i mdo), хорошо известная в монго-ловедной литературе под кратким названием «Море притч» (от монг. üliger-ün dalai-yin neretü sudur, ойр. üligeriyin dalai). Это классический образец ти-бето-монгольской повествовательной литературы конца XVI – начала XVII в., включенный в состав Ганджура – первой части канонического свода на монгольском языке. Тибетскую версию сутры исследователи датируют 632 г. н.э. Хорошо известны монгольские переводы этого сочинения, осуществленные в конце XVI – начале XVII в. такими авторами, как Ширээт-гуши-цорджи, То-йн-гуши и Зуун-Авгинский Цултэмлодой. Обращение Зая-пандиты к этому памятнику было не случайным. Из истории сложения этой сутры известно, что в ней в одно композиционное целое объединены легенды, притчи, рассказы, которые излагаются от лица самого Будды, при этом им разъясняется причинно-следственная связь между нынешними событиями и событиями прошлых перерождений. Главное назначение этих рассказов сводится к тому, чтобы пробудить в слушателях и читателях стремление к нравственности, милосердию и щедрости [Музраева 2013, 71].
Таким образом, включение в состав корпуса текста перевода «Сутра о мудрости и глупости», выполненного Зая-пандитой в период между 1650 и 1661 гг. [Лувсанбалдан 1968, 118–119], представляется одним из важных его элементов. В качестве дополнительного варианта перевода данной сутры может выступить ее перевод, осуществленный калмыцким буддийским священнослужителем Тугмюд-гавджи (О.М. Дорджиевым) (1887–1980), который да- тируется 1968 г. Из сказанного следует, что эти два перевода разделяют три столетия. Последующее включение второго из упомянутых текстов в состав корпуса представляется актуальным, поскольку даст возможность исследователям провести сопоставительный анализ двух разновременных ойратских переводов «Сутры о мудрости и глупости».
Далее в статье представлены некоторые наблюдения над этими двумя текстами. Отличительные особенности проявились, к примеру, в подборе лексики. Так, в тексте перевода Зая-пандиты мы обнаруживаем слово «сокровищница», переданное словосочетанием daruca sang, характерным для ойратского языка XVII–XVIII вв., которое вышло из активного употребления в современном калмыцком языке. В переводе Тугмюд-гавджи указанное слово передано как urxa sang, что соответствует более распространенному современному уурхан саӊ («неисчерпаемое богатство, сокровище»), под которым имеют в виду сокровища недр земли [Калмыцко-русский словарь 1977, 542].
Для ойратских переводов Зая-пандиты и его современников характерным является передача слова со значением «жена, супруга; женщина» словом nay-iǰinar, которому в современном калмыцком языке соответствует слово «друг» во мн. ч., при этом слово «жена» передается как гергн , а «женщина» – словосочетанием күүкд күн [Калмыцко-русский словарь 1977, 329]. Что касается перевода Тугмюд-гавджи, то в тех случаях, когда речь идет о жене или женщине, он использует слово gergen, что соответствует современному гергн .
При сравнении двух переводов сутры, особенно в тех историях, в которых описываются моменты зарождения новой жизни в семье того или иного правителя (царя, состоятельного домовладельца), в переводе Зая-пандиты мы обнаружили, что при подборе лексического эквивалента к тибетскому sems can dang ldan par gyur te (букв. «став наделенной разумным существом») со значением «забеременеть» [Dzan, л. 63a, 66b–67a, 115b] мы встречаем такой вариант перевода как amitan-tai bolboi (букв. «стала [обладательницей] одушевленного существа») [UDZ, л. 51b, 54a–54b], что имеет значение «стала беременной». В лексикографических трудах слово amitan-tai (amitantai) поясняется как вежливая форма [Позднеев 1911, 9; Krueger 1978, 35]. Данный перевод мы встречаем, к примеру, в 13-й и 21-й главах в тексте Зая-пандиты. Вместе с тем необходимо отметить, что в одной из глав его перевода мы встречаем другой эквивалент dabxur boluqsan-du со значением «когда забеременела» (17-я гл.) [UDZ, л. 84a], что передает тиб. sbrum pa las [Dzan, л. 102a]. В имеющихся словарях ойрат-ского языка мы не обнаружили никаких помет и пояснений к значению слова dabxur, однако современный словарь калмыцкого языка отмечает, что давхр со значением «беременность, беременный» является переносным, просторечным [Калмыцко-русский словарь 1977, 175].
Интересным представляется то, каким образом все указанные моменты переданы Тугмюдом-гавджи. Так, в 17-й главе, где речь идет о беременной жене домохозяина, sbrum pa las («была беременна») [Dzan, л. 102a] в тексте его перевода передано как sātai caqtu «в то время, когда была беременна» [UDT, л. 94b]. Что касается примеров из других глав, то тиб. sems can dang ldan par gyur te («став наделенной разумным существом») в 13-й главе перевода Туг-мюд-гавджи переведено как olzatai bolun «сделалась [обладательницей] пользы (прибыли)» [UDT, л. 51b], а в 21-й – как ayimten toqtad «когда живое существо утвердилось (сформировалось)» [UDT, л. 112b]. Из сказанного следует, что в переводе Зая-пандиты мы имеем пример подбора разных эквивалентов перевода к слову (словосочетанию) с одним и тем же значением, но оно продиктова- но тем, что переводчик строго следует тексту первоисточника. Относительно перевода Тугмюд-гавджи можно отметить, что к словам (словосочетаниям) с одним и тем же значением он может подбирать разные варианты перевода.
При сопоставлении двух переводных сочинений большой интерес вызывают описания событий дворцовой жизни многочисленных царских особ, уклада жизни семей богатых домовладельцев, иными словами, реалий жизни древнеиндийского общества. В тексте 1-й главы сутры не раз упоминаются цари, некогда правившие на Дзамбутибе. Согласно буддийской космологии, под Дзамбутибом понимается один из четырех материков мироздания, мифический южный континент, а также мир людей. Описание богатства и могущества одного из таких царей по имени Канашинипали передано Зая-пандитой следующим образом:
Прежде, до наступления бесчисленных калп (периодов времени), здесь на Дзамбутибе правил великий царь по имени Ганашанипали, который подчинил себе множество мелких царей, у которого было восемьдесят четыре тысячи городов, жен, дворцовых слуг двадцать тысяч, десять тысяч великих сановников. Поскольку тот царь был преисполнен сострадания, люди и все живые существа пребывали в мире и счастье. Тот царь стал относиться ко множеству живых существ словно отец или мать [UDZ, л. 4a].
Как видно из этого отрывка, имя царя Зая-пандита приводит, не переводя, в искаженной санскритской форме. Образ этого царя так передан Тугмю-дом-гавджи, который также не переводит имя царя, оставляя его санскритскую форму:
До наступления бесчисленного количества калп, здесь, на Дзам-бутибе, жил царь по имени Гани-Шини-Бали. Он правил многочисленными малыми царями, правил восемьюдесятью четырьмя тысячами городов. У него было жен и слуг двадцать тысяч, великих сановников тоже было десять тысяч. В силу того что тот царь был преисполнен великим состраданием, к многочисленным живым существам во главе с людьми он [относился] как отец или мать [UDT, л. 2b–3a].
Зая-пандита так описывает образ другого могущественного царя, характеризуя его отношение к своим подданным:
Также в другое время, до наступления неисчислимого, неизмеримого количества калп, здесь, на Дзамбутибе, правил царь по имени Шаби. Дворец, в котором он пребывал, именовался Дева-Варда. Был преисполнен неизмеримым благоденствием и счастьем. В то время тот царь властвовал на Дзамбутибе. Господство его распространялось на восемьдесят четыре тысячи малых царей, восемьсот тысяч городов в шестидесяти тысячах стран, двадцать тысяч жен и дворцовых слуг, пятьсот царевичей, десять тысяч сановников. По отношению к ним он проявлял только заботу и сострадание [UDZ, л. 11b–12a].
У Тугмюд-гавджи об этом царе, его дворце и подданных сказано в следующем фрагменте перевода:
Также прежде, до наступления неисчислимого, неизмеримого количе ства калп, здесь, на Дзамбутибе, правил царь по имени Шиби. Царский дворец носил название Дэбе-Бардо (Дэваварта). Был он преисполнен благосостояния, благоденствия, благоприятного года, неизмеримого счастья. В то время тот царь властвовал над Дзамбутибом. Было у него вассальных царей восемьдесят четыре тысячи, стран – шестьдесят тысяч, среди них восемьсот тысяч городов. Жен и дворцовых слуг было двадцать тысяч, царевичей – пятьсот, сановников было десять тысяч. Не было тех, кого бы он ни одарил милосердием и состраданием [UDT, л. 9b].
Следующие два отрывка из переводов Зая-пандиты и Тугмюд-гавджи (Глава VI о юноше Ганга-Даре) содержат описание эпизода из дворцовой жизни с участием царицы и ее слуг. Так этот эпизод передан Зая-пандитой:
Супруга царя и свита, выйдя за пределы двора, отправились совершить омовение в лесном пруду. Они сняли свои одежду и украшения и повесили на дереве. Тот Ганга-дара, увидев, как одежду и украшения оставили на дереве, вошел в лес, взял в охапку украшения вместе с одеждой царицы и тех [служанок] и когда подошел к воротам, привратник схватил и привел к царю [по имени] ʻНе рожденный врагʼ [UDZ, л. 26a–26b].
Этот же эпизод переведен Тугмюдом-гавджи таким образом:
Тем временем супруга царя, а также слуги отправились в прекрасный лес, [решив] искупаться, сняли одежды и украшения, повесили на дереве. Это увидел Ганга-Дара, вошел в лес, взял одежду царицы и других [членов свиты], засунул за пазуху и хотел было уйти, но привратник схватил [его] и привел к царю по имени Мад-жара (Аджаташатру) [UDT, л. 23а–23b].
Как видно из этих отрывков, оба перевода в целом сходны по содержанию. Отличительной особенностью обоих переводов является способ передачи имен собственных: если Зая-пандита передает имя царя Аджаташатру, подбирая к нему перевод на ойратском языке (ойр. ese töröqsön dayisun «не рожденный враг»), то Тугмюд-гавджи приводит это имя в транскрибированной тибетской форме (ойр. maǰara от тиб. ma skyes dgra), не переводя его.
В этой же главе описывается эпизод из жизни царя Брахмадатты. Так он описан Зая-пандитой:
В прежние времена, когда миновало бесчисленное множе ство калп, в стране под названием Варанаси жил царь по имени ʻДаро-ванный Брахмойʼ. Тот царь вместе с царицей и дворцовыми слугами отправились совершить прогулку в прекрасный лес. В то время когда там, в прекрасном лесу, дворцовые слуги стали петь, царь услышал, как с внешней стороны ограды какой-то человек стал взывать громким голосом. Царь, услышав его, рассердился и повелел: «Того человека схватите и казните!» [UDZ, л. 27a].
В переводе Тугмюд-гавджи этот эпизод передан следующим образом:
В прежние времена, когда миновало бесчисленное множество калп, в стране под названием Варанаси жил царь по имени Цангби-Джин (Брахмадатта). [Однажды] тот царь вместе с царицей и ближайшими слугами отправились совершить прогулку в прекрасный лес. В то время как в прекрасном лесу слуги распевали песни, по другую сторону ограды какой-то человек стал громко кричать, [что] дошло до слуха царя. Тот царь услышал, рассердился и повелел: «Схватите того человека и казните!» [UDT, л. 24а].
Интересно проследить, как оба переводчика передают основные положения учения Будды, которые могут быть озвучены разными персонажами. Так, в 1-й главе царь Канашинипали, который решился совершить жертвоприношение во имя учения (а именно: воткнуть в свое тело тысячу лампад), обращается к брахману (представителю сословия священнослужителей) с просьбой преподать учение. Брахман произносит такие стихотворные строки, содержащие мысли о непостоянстве и не вечности материального мира. Эту строфу Зая-пандита переводит следующим образом:
Все невечное исчерпается.
И даже те, кто высок, в конце упадут.
Если собрались, то разлучатся.
Если рождены – умрут [UDZ, л. 5b].
В переводе Тугмюд-гавджи ей соответствует такой перевод:
Все вечное исчерпается,
Высокое в конечном итоге низвергнется вниз,
Если собрались, расстанутся,
Если рождены, то умрут [UDT, л. 4а].
Если взглянуть на оба эти варианта перевода, то можно отметить, что оба автора используют приблизительно одну и ту же лексику. Что касается стихотворной формы, то у обоих переводчиков эти строфы переданы прозаической формой.
Еще один фрагмент, раскрывающий сущно сть пути бодхисаттв (существ, до стигших высшей цели – состояния нирваны, но решивших не становиться буддами, а о ставаться в сансаре, чтобы приносить пользу живым существам), в тексте первоисточника передан стихотворной строфой, которая переведена Зая-пандитой прозаическим текстом (то есть он не прибегает к начальной аллитерации, не вводит дополнительные слова, дает пословный перевод):
Созерцай мысль о милосердии,
Воздерживаясь от мыслей гнева и ненависти,
Великим состраданием прояви заботу о живых существах.
Проливая от всего сердца слезы заботы обо всех,
Предайся созерцанию великой радости.
Тем, что учение, подходящее другим, равно как и для себя,
Окружаешь заботой [с] мыслью о просветлении, Преисполнишься пути бодхисаттвы’ [UDZ, л. 10a–10b].
Стихотворный текст у Тугмюд-гавджи также передан прозаическим:
Выучи и практикуй мысль о сострадании.
Воздерживайся от того, чтобы копить гнев и злобу.
Великим милосердием спасай живые существа.
Пробудив сострадание [по отношению] ко всем, проливай слезы.
Выучи и практикуй великую радость.
Учение, подходящее и для других, и для себя, мыслью о [достижении] просветления спасать – Это [и есть] преисполниться деяниями бодхисаттвы [UDT, л.8a].
Таким образом, созданные в разные периоды переводы Зая-пандиты (сер. XVII в.) и Тугмюд-гавджи (по следняя треть XX в.) свидетельствуют о высокой эрудиции переводчиков, их блестящем знании тибетского языка, стремлении следовать тексту оригинала, представлявшего собой слово Будды, которое нельзя было исказить и которое следовало донести до своих современников. В то же время эти переводы ярко демонстрируют желание их авторов сохранить литературный ойратский (старокалмыцкий) язык.
Выводы
Все рассмотренные выше примеры позволяют в определенной мере составить представление о двух разновременных переводах известного памятника повествовательной литературы «Сутры о мудрости и глупости». По ним мы можем судить о принципах и правилах перевода, которых придерживались оба переводчика. Отличия заключаются в том, что первый из них, Зая-пандита, являлся тем, кто стоял у истоков ойратских переводов. Помимо создания новой письменности, им были заложены основы работы по переводу классических буддийских текстов на ойратский язык.
Перевод Тугмюд-гавджи, помимо того, что является ярким свидетельством бытования письменности «тодо бичиг» у калмыков вплоть до 60-х гг. XX в., демонстрирует стремление переводчика донести основные идеи памятника до своих современников, а также его желание передать буддийские ценности последующим поколениям.
Создание параллельного тибетско-ойратского корпуса с включением тибетской «Сутры о мудро сти и глупости» («Дзанлундо») и ее ойратского перевода, выполненного Зая-пандитой, дают возможность исследовать принципы и правила перевода, характерные для творческой манеры создателя письменности. Включение в состав корпуса перевода, автором которого является Тугмюд-гавджи, в качестве второго образца представляется весьма оправданным.