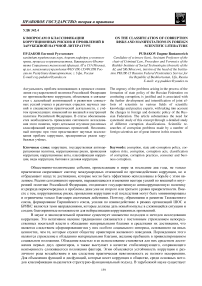К вопросам о классификации коррупционных рисков и проявлений в зарубежной научной литературе
Автор: Пудаков Евгений Рустамович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право
Статья в выпуске: 4 (42), 2015 года.
Бесплатный доступ
Актуальность проблем возникающих в процессе становления государственной политики Российской Федерации по противодействию коррупции, обоснована и связывается с дальнейшей активизацией и развитием совместных усилий ученых в различных отраслях научных знаний и специалистов практической деятельности, с учётом происходящих изменений во внешней и внутренней политике Российской Федерации. В статье обосновывается необходимость проведения системного исследования этого понятия, через детальное изучение различных классификаций коррупционных проявлений. Несомненный интерес при этом представляют научные исследования проблем коррупции, предпринятые рядом зарубежных учёных.
Коррупция, проявления коррупции, государственная антикоррупционная политика, коррупционные риски, коррупционные акты, классификация коррупции, виды коррупции, бытовая и деловая коррупции
Короткий адрес: https://sciup.org/142232647
IDR: 142232647 | УДК: 342.4
Текст научной статьи К вопросам о классификации коррупционных рисков и проявлений в зарубежной научной литературе
Общественно-политические события, происходящие в мире за последние два года, не только практически сворачивают систему международных отношений по противодействию коррупции, но и отбрасывают назад те достижения, которые могли быть эффективно использованы в борьбе с этим явлением. Реалии сегодняшнего времени, выражающиеся в изменении вектора усилий во внешней и внутренней политике Российской Федерации, отодвигают государственную антикоррупционную политику из разряда первоочередных в проблемы даже уже не второго или третьего уровня приоритетности. Вместе с тем, коррупционные риски, проявления коррупции и её последствия могут быть минимизированы и ограничены только благодаря системным действиям. Поэтому, образование и развитие Таможенного союза, формирование Евразийского союза, усилия по взаимодействию в рамках организаций ШОС и БРИКС являются теми направлениями, которые должны дать новый импульс в сложившейся ситуации и создать благоприятные возможности для нейтрализации коррупционных проявлений.
В науке и законодательной практике существует множество подходов и методов исследования коррупции. Это негативное явление традиционно связывается с постоянным стремлением непосредственных носителей власти к обладанию материальными благами и средствами их достижения, что является следствием сформировавшегося у них особого социального интереса, основанного на иных ценностях, чем те, которые служат обществу ориентиром желаемого поведения. Порождением этого являются стремление к обладанию материальными благами, желание пребывать в привилегированном социальном положении. Обладание властью и ее использование становится для них средством достижения первых двух ориентиров, а также выступает в качестве стабилизирующего, сохраняющего неизменность сложившегося положения фактора. Этим объясняется устойчивость коррупции к различного рода воздействиям и как следствие практическая невозможность ее полного искоренения. Для объяснения функций и дисфункций, которые несет коррупция в обществе, среди основных методов классификации выделяется структурно-функциональный подход. В зарубежной науке существует

достаточно большое количество различных классификаций коррупционных проявлений, поэтому остановимся только на наиболее распространённых из них.
Немецкий социолог Макс Вебер делал вывод о функциональности и приемлемости коррупции при условии, что она усиливает позицию элит, гарантирующих ускорение происходящих в обществе изменений. Согласно обоснованию сторонников такого подхода, выполнив свои политические и экономические функции, коррупция исчезает. Экономические функции коррупции сводятся к стимулированию инвестиций и развитию предпринимательства за счет устранения или снижения бюрократических препятствий. Вместе с тем, другим сторонником функционального подхода Г. Мюрдалем, утверждалась негативная составляющая коррупции, которая является препятствием для модернизации общества и его развития.
Сторонниками институционального подхода (С. Хантингтон, Я. Тарковски), определяется что, коррупция является единственным средством для создания институтов, необходимых для демократического развития общества. По их мнению, коррупция является не отклонением от норм поведения, а несоответствием между нормами и устанавливающимися моделями поведения [1, с. 6.].
Американский исследователь С. Роуз-Аккерман предложила классификацию коррупции на политическую, обусловленную процессом принятия законов, и на административную, связанную их применением. Говоря о государственной (политической) коррупции, связанной со структурой различных государств С. Роуз-Аккерман приводит еще более дробную классификацию коррумпированных обществ, для этого она выделяет два признака: по типу получателей взяток и по типу «рынка» взяток. По первому признаку выделялись два типа общества – клептократия, в которой коррупция организована в верхушке правительства, и общества, где коррупция является сферой деятельности большого числа бюрократов. По второму признаку – общества, где существует небольшое число основных частных коррупционных действующих лиц и где выплаты взяток децентрализованы.
Таким образом, эти два признака соответствуют четырем категориям коррумпированных государств: клептократии, конкурентному рынку, двойственной монополии и очень слабому государству, контролируемому мафией. По мнению С. Роуз-Аккерман, для предотвращения коррупции должна действовать система адекватных наказаний: для фирмы соотноситься с размером ее прибыли, а для должностных лиц в – с размером полученного вознаграждения. Кроме того им обосновывалось, что эффективность антикоррупционной политики определяется тяжестью соответствующих санкций, структурой рынка фирм, организованными формами администрации, и точностью распоряжений правительств [3, с. 9].
Другой, американский исследователь коррупции М. Джонстон предложил выделить несколько ее типов: взятки чиновников в сфере торговли; отношения в государственных системах, в том числе покровительство на основе земляческих, родственных, партийных принципов; дружба и кумовство; а также так называемая кризисная коррупция, обусловленная тем, что предприниматели вынуждены работать в условиях чрезвычайного риска, когда решения органов власти могут привести к существенным для бизнеса изменениям и потому эти решения становятся предметом торговли [4, с. 14–15; 3, p. 14–15].
С точки зрения отношения к коррупции общественного мнения в целом и элиты в частности, американский социолог А. Дж. Хайденхаймер предложил разделить коррупцию на «белую», «серую» и «черную». Учёный отнес к «белой» коррупции те деяния, которые не воспринимаются ни общественным мнением, ни элитами в качестве незаконной, хотя формально они таковыми являются. По мнению исследователя, это говорит о том, что данная форма коррупции стала частью национальной культуры (обычаем, нормой). К «черной» коррупции относятся деяния, в отношении которых наличествует единодушное осуждение. Наконец, к «серой» коррупции А. Дж. Хайденхаймер относит те действия, относительно которых нет единодушного мнения является данное действие коррупцией или нет [5, с. 362–363; 4, p. 362–363].
С. Роттенберг на уровне отдельных актов разделил коррупцию на три вида. К первому виду он отнес ситуации, когда плата взимается за выполнение того, что официальные правила требуют выполнять без оплаты (например, плата за формально бесплатную визу может быть рассмотрена как "тариф").
Второй тип коррупционных актов, когда плата назначается за невыполнение того, что правила требуют выполнять (так, взятка за сокрытие аудитором важной информации – это тоже "тариф"). И третий тип коррупции, когда оплата берется за действия, впрямую нарушающие законы (например, налоговый инспектор за взятку – может представить неверный отчет о доходах подкупающего его налогоплательщика) [6, с. 611–615; 6, pp. 611–615].
С точки зрения организационного подхода Дж. Тирол разделил коррупцию на внутреннюю и внешнюю [7, с. 6–8; 7, p. 6–8]. Первую группу образуют бытовая и деловая коррупции. В этом случае в качестве клиентов выступают граждане, вступающие во взаимодействие с властью. Сюда относится коррупция в государственных вузах и медицинских учреждениях, в военкоматах и автоинспекции, в учреждениях социального обеспечения и полиции. Понятно, что перечислены далеко не все разновидности бытовой коррупции. Деловая коррупция, в которой в качестве клиентов выступают представители негосударственных организаций (юридических лиц). Это могут быть представители бизнеса, общественных организаций или других организаций, не являющихся властными органами. Важно, что, взаимодействуя с должностными лицами и вступая с ними в коррупционные сделки, эти представители отстаивают интересы своих организаций.
Существуют основные логические схемы, порожденные внутренними факторами. Первая – горизонтальная коррупция: в сговоре участвуют представители разных ведомств, не находящиеся друг с другом в принципал-агентских отношениях. Типичный пример: губернатор как представитель исполнительной власти и руководитель законодательного органа региона. Тут важно отметить их взаимозависимость от взаимовыгодных решений, которые они могут принять. Но эта зависимость не порождается агентскими отношениями между ними, так как у них разные принципалы.
Другие возможности – это нисходящая коррупция и восходящая коррупция: в этих случаях агент и клиент находятся одновременно в агентских отношениях либо непосредственно, либо через промежуточных принципалов, т.е. являются частью одной иерархической цепочки. При нисходящей коррупции клиентом, т.е. лицом, дающим взятку, является должностное лицо, находящееся выше в иерархии. При восходящей коррупции клиентом, т.е. лицом, дающим взятку, является должностное лицо, находящееся ниже в иерархии.
Восходящая коррупция очевидна, распространена и легко распознаваема. Под это определение попадают все случаи, когда должностные лица передают часть собранного ими коррупционного дохода вышестоящему начальству. Тем самым обычно покупается защита постоянного коррупционного дохода, которую может обеспечить начальство. Одновременно покупается лояльность этого начальства по отношению к коррупционной активности подчиненных, поскольку на начальстве обычно лежит контрольная функция за выполнением подчиненными агентского соглашения.
Наконец, последняя, возможность – это смешанная коррупция. Сам термин указывает на то, что взаимодействующие коррупционеры находятся друг с другом (в разных сочетаниях) в разных отношениях из трех видов перечисленных выше.
Ещё один американский учёный Р. Теобальд проводит сравнительный анализ положительных и негативных последствий от коррупции. Среди выгод от коррупции он называет стимулирование экономического роста и содействие политическому развитию. Так, в развивающихся странах, по мнению учёного, в условиях ограниченности ресурсов капитала коррупция, не выходящая за определенные рамки, создает благоприятный климат, для расширения экономических возможностей, реализации стремления к получению прибыли. При этом рынок позволяет выявить реальные соотношения спроса и предложения, с учетом которых может быть скорректирована регулируемая цена [8, pp. 549–560; 8, pp. 549–560].
Содействие политическому развитию объясняется тем, что коррупция, участвуя в формирующихся в выборах политических партий, стимулирует массовое участие граждан в политическом процессе. К негативным сторонам коррупции, учёный называет такие как: растрата капитала, подавление предприимчивости, разбазаривание национальных ресурсов, ослабление управленческого потенциала, подрыв демократии; фактор нестабильности и подрыва национальной интеграции.
Таким образом, приведённые примеры изучения разновидностей коррупционных проявлений зарубежными исследователями указывают на неоднозначность их отношения к этому феномену. Стремление выделить и проанализировать не только отрицательные, но и имеющиеся положительные стороны коррупционных проявлений на примере имеющегося опыта в государствах с различным уровнем экономического и политического развития нацелено на понимание научного обоснования эффективной государственной антикоррупционной политики на определённых этапах развития любой страны. И здесь, типологизация коррупции позволяет выделить основные приоритетные направления борьбы с ней – против кого, в каких секторах, на каких уровнях, использование каких сил и средств.
Список литературы К вопросам о классификации коррупционных рисков и проявлений в зарубежной научной литературе
- Абашидзе А.Х. Коррупция- угроза национальной и международной безопасности.Актуальные проблемы борьбы с коррупцией: Материалы Всероссийской научной конференции/ Отв.ред. В.В.Попадейкин,С.Н. Сидоренко. М: МАНЭБ,2008. С. 4-19.
- Аленкин С.В. Механизм противодействия коррупции (теоретико-правовое исследование). М., 2008.
- EDN: QQWAEB
- Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. М., 2003.
- Johnston M. Political Corruption and Public Policy in America / M. Johnston. Monterey: Brooks Cole Publishing Co, 1982. pp. 14-15.
- Heidenheimer A., Political Corruption: A Handbook. New Brunswick, NJ, 1989. p. 362-363.
- Rottenberg S. Comment.Journal of Law and Economics. 1975. Vol. 18(3).pp. 611-615.
- TiroleJ.A Theory of Collective Reputations.Research Papers in Economics University of Stockholm, 1993, No. 9, pp. 6-8.
- Theobald R. Patrimonialism. World Politics.1982.V. 34.№ 4, pp. 548-559.