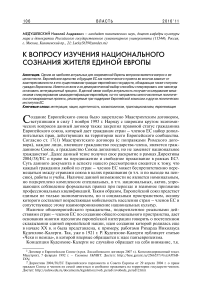К вопросу изучения национального сознания жителя единой Европы
Автор: Медушевский Николай Андреевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 11, 2016 года.
Бесплатный доступ
Одним из наиболее актуальных для современной Европы вопросов является вопрос о ее целостности. Европейское единство и будущее ЕС как политического проекта во многом зависит от заинтересованности в его существовании граждан европейских государств, обладающих также статусом граждан Евросоюза. Именно их воля и их демократический выбор способны стимулировать или навсегда остановить интеграционный процесс. В данной связи особую актуальность получает исследование механизмов стимулирования самоидентификации европейцев, на что направлены многочисленные политически ангажированные проекты, реализуемые при поддержке Европейской комиссии и других политических институтов ЕС.
Интеграция, нация, идентичность, космополитизм, транснационализм, европеизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170168197
IDR: 170168197
Текст научной статьи К вопросу изучения национального сознания жителя единой Европы
С оздание Европейского союза было закреплено Маастрихтским договором, вступившим в силу 1 ноября 1993 г. Наряду с широким кругом экономических вопросов данный договор также закрепил правовой статус гражданина Европейского союза, который дает гражданам стран – членов ЕС набор дополнительных прав, действующих на территории всего Европейского сообщества. Согласно ст. 17(1) Маастрихтского договора (с поправками Римского договора), каждое лицо, имеющее гражданство государства-члена, является гражданином Союза, а гражданство Союза дополняет, но не заменяет национальное гражданство1. Далее данный тезис получил свое раскрытие в рамках Директивы 2004/38/EC о праве на передвижение и свободное проживание в рамках ЕС2. Суть данного документа в аспекте нашего рассмотрения сводится к тому, что каждый гражданин любой из стран – членов ЕС может беспрепятственно перемещаться между странами союза в целях проживания (в т.ч. и по выходе на пенсию), работы и учебы. Наличие данной возможности не является номинальным, но подкреплено комплексом специальных, в т.ч. национальных, актов, упрощающих соблюдение формальных правил при переезде и взаимное признание профессиональных квалификаций. Таким образом, Европейский союз предстает единым не только экономическим, но и социальным пространством, основу которого составляет возрастающая мобильность населения стран – членов ЕС и сопутствующее этому взаимопроникновение национальных культур.
Наличие общеевропейского гражданства, подкрепленное реальными действиями стран – членов ЕС по созданию общего социального пространства, дает основания многим идеологам европейской интеграции говорить о постепенном складывании единой европейской нации, идея создания которой родилась еще в начале ХХ в. и была представлена, к примеру, работами Рихарда Николауса Куденхове-Калерги. Так, уже в 1921 г. Р. Куденхове-Калерги публикует статью «Чехи и немцы», в которой впервые обращается к идее панъевропеизма.
Концепция Куденхове-Калерги не случайно обращает на себя внимание, т.к.
в ее основе заложена именно идея объединения государств на основе близости идеалов культуры формирующих их наций. Основным таким идеалом Куденхове-Калерги видел демократическую культуру, находящую свое выражение в индивидуализме и свободе выбора. При этом панъевропеизм был представлен не как идея, а как комплексная идеология, основа которой была заключена в манифесте «Пан-Европа» (1923) [Куденхове-Калерги 2006] и в вышедшей позже книге «Борьба за пан-Европу». Суть данной идеологии сводилась к комплексному объединению европейских государств в экономической, политической и культурной сферах, потенциалом которого служит единство общей культуры, основанной на античной эллинистической традиции и продолжающей ее традиции христианской.
Именно принадлежность к данной традиции дает основания говорить о потенциале единой «европейской нации», которая по своей сути противоположна «традиционной нации», т.к. основана не на кровном родстве, а на родстве «по духу». «Если этот дух панъевропейской культуры победит в борьбе за свое существование, тогда каждый порядочный немец, француз, поляк или итальянец может стать в дальнейшем и хорошим европейцем» [Куденхове-Калерги 2006].
При этом речь в данном случае идет не о насильственной интеграции, а о применении «мягкой силы», которая не стремится упразднить коренные различия языка и культуры отдельных наций, а переводит этот вопрос в плоскость личностного выбора. Как следствие, понятие «гражданин своего государства» изживет само себя, как и понятие «церковь», и уступит место принципу: «свободная нация в свободном государстве» [Куденхове-Калерги 2006]. Итогом данного перевоплощения, по мнению Куденхове-Калерги, должно стать стирание границ и создание общей панъевропейской нации, основанной не на исторических стереотипах, а на реальной близости европейцев в культурном, экономическом и политическом плане.
В значительной степени именно эта интеграционная модель используется и в современной Европе, однако ее применение не линейно и разнонаправленно. Безусловно, есть формальная сторона вопроса, связанная с тем, как Европейский союз проводит политику интеграции граждан стран-членов, но гораздо большую роль, играет восприятие данной интеграционной политики отдельными людьми. Здесь показательным является политическое исследование The Development of European Identity/Identities: Unfinished Business , проведенное под эгидой Европейской комиссии в 2012 г.1 Исследование является показательным, т.к. оно учитывает широкий комплекс социально-экономических и гуманитарных проектов, реализованных в ЕС, начиная с момента его создания, а также, по заявлению авторов, обеспечивает своевременную инвентаризацию финансируемых ЕС исследований, учитываемых в реализации программ ЕС «Горизонт 2020» и рамочной программы научных исследований (2014–2020). Обзор политики покрывает более 20 разнообразных исследовательских проектов, проводимых в рамках 6-й и 7-й рамочных программ и оказывающих влияние на процесс формирования личности и идентификации на уровне Европы и ЕС.
В частности, авторы исследования выделяют 4 основных теоретических концепции, которые управляют изучением европейской идентичности.
-
1. Европейская идентичность и идентификация с Европой [Фукуяма 2013] подразумевает, что личность имеет индивидуальный компонент активного выбора в сочетании с коллективной составляющей, где люди ориентируются на одну или несколько агрегированных групп или общностей. Коллективы, на которые они ориентируются, зависят от контекста, поэтому правильнее говорить о ситуативной мозаике, а не о наборе взаимодополняющих идентификаторов.
-
2. Европеизация [Нутчева и др. 2005] как феномен обозначает тенденцию к вытеснению национальных институтов из сферы их компетенций институтами европейского уровня, имеющими универсальный принцип деятельности. По мнению авторов ряда докладов, европеизация как механизм формирования идентичности не вполне справедлива, т.к. содержит в себе элемент принуждения. Помимо этого, европеизация также может рассматриваться как продолжение глобализации, что также уменьшает ее роль в формировании именно европейской идентичности.
-
3. Транснационализм представляется еще одним механизмом формирования новой идентичности. Он противопоставляется постоянной миграции и характеризует приграничную жизнь индивида. Благодаря современной инфраструктуре человек может поддерживать существование в стране проживания и стране происхождения одновременно, не оказываясь перед дилеммой однозначного выбора.
-
4. Космополитизм [Бек 2008] выступает наиболее благоприятной формой интерпретации новой идентичности, т.к., с одной стороны, он представляет активную позицию индивида, а с другой – основан на общих европейских ценностях, в т.ч. ценностях культуры толерантности и равенства.
Представленные теоретические концепции являются сложными и многоаспектными. В рамках каждой из них существует вариативный механизм формирования идентичности, который, в свою очередь, базируется на «частных поводах» формирования данной идентичности, которые специфичны для каждого отдельного случая. В данной связи, обращаясь к исследованию такого рода «частных поводов», европейские аналитики выделяют в их числе 9 ключевых, в числе которых несколько социальных идентичностей и биографическая идентичность; транснациональные интимные отношения; коллективные действия; стандартизация и регламентация; производство культуры; межкультурный перевод; включения/исключения; структурные условия и возможности конструкций; публичная сфера и регулируемые государством институты.
В целях проводимого исследования следует рассмотреть их более подробно.
-
1. Несколько социальных идентичностей и биографическая идентичность 1 – это ситуация, когда человек идентифицирует себя с определенным меньшинством, проживающим в стране совместно с титульной нацией. В данной ситуации возможно формирование определенного противопоставления идентичности своей группы и национальной идентичности. Данное противопоставление во многом провоцирует формирование у представителей «ущемленной» группы вторичной европейской идентичности как варианта преодоления исторической несправедливости. Особенно данный феномен характерен для жителей Восточной Европы, где существует множество искусственных границ, разделяющих целые народы.
-
2. Транснациональные интимные отношения 1 – еще один значимый инструмент формирования европейской идентичности, связанный в первую очередь с аспектом мобильности . Находясь в интимных отношениях с кем-то из другой европейской страны и/или имея ребенка, обладающего гражданством другой страны, индивид оказывается мотивированным на формирование именно европейской идентичности как способа преодоления национальных барьеров.
-
3. Коллективные действия 2 – это формат преодоления национальных границ через приобщение к определенному общему действию. Таковым может выступать присоединение к общественному движению или работе в рамках организации с общими целями (например, экологические НПО). Подобная деятельность способна повысить чувство европейской идентичности, поскольку требует постоянного взаимодействия с контрагентами, что, в свою очередь, приводит к формированию универсальной корпоративной культуры и доминированию транснациональных ценностей.
-
4. Стандартизация и регламентация 3 относятся к процедурам и практике, которые являются формальными или институционализированными и направлены на стимулирование определенной культурной нормы, например в сфере деятельности образовательных учреждений. К примеру, в рамках данного подхода декларируется механизм, в соответствии с которым национальные музеи должны быть использованы в качестве агентов для взаимовыгодного социального изменения, а не рассматриваться только как хранилища исторических реликвий, способствующих сохранению «мифа о нации» в условиях нарастающей европейской интеграции.
-
5. Производство культуры 4 также исходит из принципа моделирования идентичности и предполагает создание художественных или культурных артефактов, способных повлиять на самооценку индивида. В данной связи в Европе большое внимание уделяется исследованию роли фестивалей искусств в создании нового культурного пространства.
-
6. Межкультурный перевод 5 является производной формой от направления «производство культуры» и раскрывается через тезис о том, что развитие европейской идентичности требует строительства и отделки коммуникации между группами в рамках Европейского союза. Как следствие, речь идет об универсальных ценностях и историческом наследии, которые имеют непреложный характер и в отношении которых не должны возникать споры об их истинности. Кроме того, важное значение приобретает язык и понимание ценностей на национальном уровне в принципе. В данной связи показательно, что английский язык выполняет важную функцию универсальной коммуникации и его распространение в то же время не угрожает языковому разнообразию.
-
7. Включение/исключение 6 – это механизм, в значительной степени синонимичный принципу инклюзии. Механизмы включения/исключения имеют решаю щее значен ие для формирования личности в ее противостоянии с «другим».
-
8. Структурные условия и возможности конструкций 1 – это очень многообразный фактор, также сопоставимый с инклюзией, но представляющий ее уже в социальном ключе. В том числе речь идет о состоянии европейской инфраструктуры, возможности (или отсутствии) мобильности и т.д., т.е. о широкой совокупности факторов, которые имеют практические последствия и могут развить или свернуть формирование чувства коллективной идентификации с Европой. Речь в т.ч. идет и о мигрантах, для которых не характерна европейская идентичность и которые изначально находятся в худших условиях, чем коренные европейцы. Как следствие, структурные условия и возможности конструкций – это та совокупность принципов, которая позволяет тем же мигрантам получить информацию о европейском обществе, использовать ее для социализации и получить обратную связь от социальных и политических структур европейского общества.
-
9. Публичная сфера и регулируемые государством институты 2 – это последняя и самая высокая ступень влияния на формирование идентичности жителя ЕС. Целью данного направления является укрепление демократии в рамках институтов Европейского союза. Этот сложный проект выдвинул множество выводов и рекомендаций по 8 основным категориям: (I) конституционным вопросам; (II) работе представительных учреждений, в частности Европейского парламента; (III) гендерным вопросам; (IV) демократизации снизу посредством публичной сферы и гражданского общества; (V) внешней политике и безопасности; (VI) политической экономике Европейского союза; (VII) формированию коллективной идентичности и расширению ЕС; (VIII) влиянию глобализации и сравнительному измерению.
Несмотря на распространенность данной модели формирования идентичности, она, тем не менее, не является общеприменимой, т.к. для многих меньшинств характерен определенный «геополитический скепсис», особенно если речь идет о странах новой Европы, например Болгарии, или о странах, еще не присоединившихся к ЕС.
Представители меньшинств в новых государствах-членах часто заявляют, что чувствуют, что их интересы не будут учтены ЕС. Кроме того, перспектива вступления в ЕС может повысить опасения, особенно среди старшего поколения, которое воспринимает неоклассические экономические свободы и мобильность в качестве угрозы.
Сопоставление с культурными особенностями других должно носить доброкачественный характер и быть устойчивым к фактору ксенофобии. Как следствие, речь идет о реализации проектов сближения, прежде всего, этнических групп с целью просвещения и примирения. Направление предлагает различные механизмы поддержки языков меньшинств для формирования их общей позиции в отношении ЕС, который выступает как пространство диалога.
В рамках европейских исследований последних лет все рассмотренные нами «частные поводы» проходят четкую и детализированную классификацию, которая, в свою очередь, позволяет прийти к социально и политически значимым выводам. В том числе проекты ЕС, основанные на анализе публичной сферы и регулируемых государством институтов, позволили выявить целый ряд аспектов (видений), напрямую влияющих на формирование европейской идентичности. В их числе: Европа в качестве крупнейшей экономической державы мира; Европа как географическая единица с четкими границами; Европа в качестве нормативного и нравственного инструмента «мягкой силы»; Европа как кластер привлекательных узлов в глобальной сети; понятие Европы в качестве препятствия Европейскому союзу.
На основе анализа совокупности европейских исследований, посвященных формированию универсальной европейской идентичности, оказалось возможным не только выделить ключевые поводы формирования идентичности, но и обозначить две комплексные модели формирования европейской идентичности, в т.ч. культуралистскую и структуралистскую.
Культуралистская модель предполагает ориентацию на основные установленные европейские ценности и их выражение в общественной практике, прежде всего в области управления и функционирования правовой системы. Эта точка зрения подчеркивает эссенциализм Европы и утверждает механизмы, в которых идентификация с Европой реализуется «сверху-вниз» или в которых личность подвергается воздействию влиятельных дискурсов и символов. Если интернализация происходит в детском или подростковом возрасте, основным механизмом становится социализация, а если во взрослом – то убеждение или внушение.
Структуралистская модель имеет обратный принцип действия. Ориентация на Европу и европейские ценности происходит от связи с другими европейцами. Личность, взаимодействуя с другими, приходит к осознанию того, что имеет с ними много общего. Следовательно, структуралистская модель утверждает механизмы, в которых идентификация с Европой происходит «снизу-вверх». Это наиболее убедительно, если человек взрослый или относится к подростковому возрасту. В таком случае он активно участвует в процессе социализации и взаимодействует в социальной системе на горизонтальном уровне.
Сравнивая две модели, европейские аналитики отмечают, что культуралист-ская модель более укоренена в европейской практике и до недавнего времени была доминирующей в исследованиях европейской идентичности. При этом на данный момент обе модели имеют паритетный статус, что делает подход к формированию европейской идентичности более комплексным.
Обобщая приведенные данные, характеризующие европейские исследования в сфере формирования единой европейской идентичности, следует отметить, что на данный момент проделана достаточно сложная работа, цель которой – сформировать систему комплексного воздействия на жизнь граждан Европы. При этом речь не идет о прямой пропаганде или принуждении. Система такова, что составляющие ее мероприятия не обязывают, а скорее подталкивают индивида к трансформации своего мышления в пользу панъевропейского восприятия. При этом нельзя не отметить и определенные пробелы, просматривающиеся в данной системе. Об одном из них говорят, например, и сами авторы доклада The Development of European Identity/Identities: Unfinished Business . Данный минус связан с возможностью воздействия на старшее поколение, особенно в экономически слабо развитых регионах. Для данной категории граждан ЕС больше характерно консервативное «локальное» мышление. Кроме того, важной проблемой является и неудовлетворенность населения ряда стран ЕС плохой экономической ситуацией, которая провоцирует протестные по отношению к ЕС настроения уже среди молодежи. Как итог, можно привести данные организации «Евробарометр»1, которые свидетельствуют о неоднозначности процесса конструирования единой европейской нации. Так, гражданами ЕС себя ощущают только 62% респондентов, а в ближайшем будущем только европейскую идентичность обнаружат у себя лишь 3% опрошенных. При этом о двойной идентичности говорят 55% респондентов, а еще 38% склоняются исключительно к национальной идентичности.
Список литературы К вопросу изучения национального сознания жителя единой Европы
- Бек У. 2008. Космополитическое мировоззрение. М.: Центр исследований постиндустриального общества. 336 с
- Куденхове-Калерги Р.Н. 2006. Пан-Европа (отв. ред. Е. Айзпурвит). М.: Вита Планетаре. 120 с
- Нутчева Г., Точчи Н., Копиттерс Б., Ковзиридзе Т., Эмерсон М., Хейссен М. 2005. Европеизация и сецессионистские конфликты: концепции и теории. -Европеизация и разрешение конфликтов: конкретные исследования европейской периферии (пер. с англ.). М.: Весь Мир. С. 19-62
- Фукуяма Ф. 2013. Проблемы европейской идентичности. -The Global Journal. Доступ: http://gefter.ru/archive/9047 (проверено 20.10.2016)