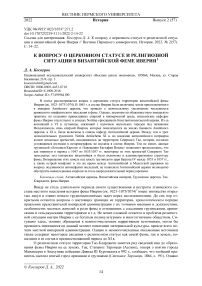К вопросу о церковном статусе и религиозной ситуации в византийской феме Иверия
Автор: Косоуров Д.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 2 (57), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о церковном статусе территории византийской фемы Иверия (ок. 1023-1073/1074). В 1045 г. в состав Иверии были включены земли присоединенного к империи Анийского царства, что привело к значительному увеличению численности армянского миафизитского населения в феме. Однако, несмотря на общеизвестную имперскую практику по созданию православных епархий в иноверческой среде, епископские кафедры фемы Иверия отсутствуют в списках Notitiae episcopatuum Константинопольской церкви. Из-за возникшей в VI в. путаницы, связанной с наличием нескольких городов под названием Феодосиополь, семь епархий Иверии, которые локализуются на землях бывшего Анийского царства, в XI в. были включены в список кафедр Антиохийской церкви. Между тем в трех дополнительных рукописях Notitia Antiochena XI в. во владения антиохийского патриарха входят несколько крепостей, находившихся на территории Северного Тао, которая, согласно устоявшимся взглядам в историографии, не входила в состав Иверии. Тем не менее, данные грузинской «Летописи Картли» и «Завещания Евстафия Воилы» позволяют предположить, что как минимум в период с 1047 по 1053/1057 гг. некоторые из этих крепостей Северного Тао находились под контролем византийцев и были включены в административную структуру фемы. Возвращение этих земель под власть грузинского царя Баграта IV между 1053 и 1057 гг., а также острый конфликт в это же время между Антиохийской и Мцхетской церквями по вопросу подлинности автокефалии последней, не позволили Антиохийской церкви полноценно обустроить новосозданные епархии за столь непродолжительный период времени.
Антиохийская церковь, византийская империя, грузинское царство, тао-кларджети, фема иверия
Короткий адрес: https://sciup.org/147246416
IDR: 147246416 | УДК: 94(495)"1023/1074":271.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-2-14-22
Текст научной статьи К вопросу о церковном статусе и религиозной ситуации в византийской феме Иверия
Ввиду не столь длительного периода своего существования и пестроты этнического состава местного населения история фемы Иверия (ок. 1023–1073/1074)2 имеет множество открытых лакун и ставит немало трудновыполнимых задач перед исследователями. До сих пор открытыми остаются вопросы о настоящих границах ее территории, хронологическом порядке правления представителей имперской администрации с их точными именами и должностями, особенностях местных жителей и роли фемы в отношениях с соседними грузинскими, армянскими и сельджукскими территориями и т.д. Не менее сложной остается и проблема религиозной ситуации внутри Иверии с ее богатым поликультурным и многоэтничным обществом. Ситуацию здесь, помимо обращения к немногочисленным нарративным источникам, могли бы прояснить имеющиеся на данный момент памятники материальной культуры, прежде всего печати местной имперской администрации. Однако и немногочисленные письменные источники также содержат некоторые сведения о религиозном статусе как самой фемы, так и земель, вошедших в ее состав в предшествовавший период до XI в.
О религиозном статусе территории Тао-Кларджети имеется ряд сведений еще до образования фемы Иверия на ее землях. Так, Степанос Таронеци (Асохик), говоря о взятии города Маназкерта в Апахунике войсками Давида III Куропалата в 992 г., сообщает, что таойский правитель заселил взятый город армянами и грузинами ( Степанос Таронеци , 1864, с. 191). Однако
уже в 997–998 гг., во время осады Хлата, таойские воины превратили местную армянскую церковь и другие культовые места в собственные жилища и конюшни и в ответ на недоумение местного осажденного мусульманского населения сообщили, что в их представлении армянская церковь равнозначна арабской мечети (Там же, с. 193). Такой «казус» определенно демонстрирует, что, несмотря на однозначное присутствие армян в составе армии Давида III, воины из Тао без сомнения придерживались православного халкидонского вероисповедования.
Далее церковные деятели земель в округе Тао играют важную роль в ходе византийско-грузинского военного конфликта 1021–1022 гг. Так, армянский писатель второй половины XI в. Аристакэс Ластивертци подробно описывает участие в этом конфликте грузинского епископа Валаршакерта ( груз. ბასიანი , Басиани ) Захарии Банели [ Степаненко , 1997]. Епископ Захария сначала выполнял миротворческие миссии по поручению византийского императора Василия II, но вскоре перешел на сторону грузинского царя Георгия I, за что подвергся ссылке в Константинополь и вырыванию языка ( Аристакэс Ластивертци , 1968, с. 66). Однако кому принадлежал Басиани по состоянию на 1021 г.? Как известно, причиной вышеназванного военного конфликта был отказ Георгия I в 1014 г. признать юридические права Византии на «наследство Давида Куропалата» и захват им ряда земель, уже отошедших Византии в 1001 г. после смерти Давида III. Был ли захвачен им и Басиани? Точно известно, что Феодосиополь (в 40 км к западу от Басиани) остался в руках византийцев, так как в 1018 г. Василий II отправил туда некоего никомидийского сановника для восстановления стен, а в 1021 г. встал здесь лагерем с войском (Там же, с. 60). В любом случае, Аристакэс подчеркивает, что Захария был грузином (վրացի, враци ), то есть окормлял именно местную грузинскую паству. В то же время Иоанн Скилица сообщает, что епископ Захария был родственником веста Февдата (перешедшего на византийскую службу в 1001 г.) и был подвергнут отрезанию языка в период правления императора Константина VIII по обвинению в заговоре ( Ioannis Scylitzae , 1973, p. 372.89–91), что, учитывая рассказ Аристакэса, может быть анахронизмом, свойственным Скилице при описании связанных с Иверией сюжетов [ Степаненко , 1983, с. 212–213].
После окончания войны 1021–1022 гг. и создания фемы Иверия в 1023 г. напряжение и конфликт между Византией и Грузинским царством продолжились и с непосредственным участием грузинских священнослужителей из области Тао-Кларджети. В 1027–1028 гг. на сторону Византии переходит епископ Баны Иоанн, тогда как епископ Тбети (крепость на севере Шав-шети) Саба и епископ Анчи (крепость на востоке Кларджети) Эзра оказывают сопротивление вторгнувшемуся войску доместика схол и паракимомена Николая ( Картлис цховреба , 2008, с. 153, 230). «Сферы ответственности» духовных лиц за местные храмы соответствуют предложенному еще Э.С. Такаишвили объяснению раздела земель Тао-Кладжети после войны 1021– 1022 гг. по месту впадения реки Олтисис-цхали в Чорох, где храмы Хахули и Ошки отошли византийцам, а территория с Ишхани и Бана – грузинам [ Такаишвили , 1952, с. 63]. Так, согласно двум надписям в Ишхани (одна из них датирована 1032 г.) реставрацией храма при царях Георгии I и Баграте IV руководил Антоний Цагерели [Там же, с. 28–29], тогда как в Ошки на средства императоров Василия II и Константина VII в 20-е гг. XI в. было произведено повторное перекрытие кровли глазурованной черепицей [ Djobadze , 1992, p. 127, 131]. Заказчиком же росписи Ошки в 1036 г. был византийский чиновник патрикий Джоджик, сын уже упоминавшегося патрикия и веста Февдата и вероятный уроженец этих мест [ Такаишвили , 1952, с. 65; Djobadze , 1992, p. 140].
Как известно, в 1045 г. Византия присоединила к себе Анийское царство, включив новую территорию в состав фемы Иверия и перенеся ее административный центр из Феодосиополя в Ани [Юзбашян, 1988, с. 194]. Таким образом, на территории с исторически многочисленным армянским населением численность этого этноса увеличилась еще более значительно, что нашло некоторое отражение и в письменных источниках. Так, интересные сведения предоставляет текст знаменитого «Завещания» византийского вельможи Евстафия Воилы относительно его собственности в некой восточной провинции империи, которое относится согласно упоминаемой в нем дате к апрелю 1059 г. [Lemerle, 1977, p. 15–16]. Если следовать наиболее аргументированной точке зрения о локализации владений Воилы в феме Иверия [Vryonis, 1957, p. 274– 276; Бартикян, 1961, с. 32–34], то один фрагмент «Завещания» позволяет прояснить важную информацию о религиозном положении в этих землях. Еще Р. М. Бартикян указал, что описа- ние Воилой «диких пустынь земель с множеством змей, скорпионов и диких зверей, от которых страдали местные жители армяне» [Lemerle, 1977, p. 21–22] должно быть прочитано метафорически, а под «дикими зверями» подразумеваются представители армянской «гностической» секты тондракитов, широко распространенной в восточных фемах империи в IX–XI вв. [Бар-тикян, 1961, с. 33–34]. Более того, схожее описание этих еретиков многократно приведено в армянской литературе указанного периода, в частности у того же Аристакэса Ластивертци (Аристакэс Ластивертци, 1968, с. 118–127) и Григория Магистра Пахлавуни [Юзбашян, 1988, с. 241–245]. Помимо этого, Р. М. Бартикян заметил [Бартикян, 1961, с. 33], что в области Клар-джети, где, вероятно, и обосновался Воила, в X в. жили какие-то еретики, о чем сообщается в «Житии Григория Хандзтели» Георгия Мерчуле при описании местности близ Опизы (ЖГХ, 1911, с. 144–145).
В то же время византийские авторы второй половины XI в. в своем рассказе о сельджукском продвижении на Восток империи видят ситуацию совершенно иначе. Так, и Михаил Ат-талиат, и опиравшийся на его «Историю» Продолжатель Скилицы в повествовании об эпохе императора Романа IV Диогена связывают натиски иноземцев и прекращение ромейского господства на Востоке с Божьим гневом, обрушившимся на еретиков «армянской веры» и других ересей, в частности проживающих в Иверии ( Michael Attaleiates , 1853, p. 96–97; Τσολάκης, 1968, Σ. 140–141). Столь категоричный «вердикт» писателей можно объяснить как столичным «снобизмом», так и в целом малой заинтересованностью событиями в далекой восточной провинции. Здесь можно вспомнить исчерпывающий отрывок из «Обозрения истории» Иоанна Ски-лицы: даже печенежские командиры, находившиеся на византийской службе, отказываются в 1054 г. отправиться на борьбу с вторгнувшимся султаном Тогрул-беком в Иверию – «далекую и странную страну» ( Ioannis Scylitzae , 1973, p. 460.10–13).
Что касается истории возникновения и функционирования православной епархии на территории фемы Иверия и Великая Армения (после 1045 г.), то здесь ситуация выглядит несколько сложнее. Даже с учетом значительного местного миафизитского населения практика учреждения православной епархии в иноверческой среде в новосозданной провинции была традиционна для Византии3. Более того, известна печать епископа Ани Михаила, датируемая временем византийского контроля над городом (1045–1064 гг.) [ Степаненко , Алексеенко , 2009, с. 238–241], однако сама епархия Ани отсутствует в списках Notitiae Episcopatuum Константинопольской церкви. Кому же в таком случае подчинялись новообразованные епархии на территории фемы Иверия и Великая Армения?
Изначально епархия Феодосиополя, соответствующая территории фемы Иверия, начиная с V в. подчинялась митрополии Кесарии Каппадокийской (Notitiae 1–4, 7), как минимум до патриаршества Николая I Мистика (901–907, 912–925) [Darrouzès, 1981, p. 206, 219, 233, 251, 274]. Известны имена трех епископов Феодосиополя: Петр участвовал во Втором Эфесском «разбойничьем» соборе 449 г., Манассия — в Четвертом Вселенском Соборе в Халкидоне 451 г., а другой Петр — в Пятом Вселенском Соборе в Константинополе 553 г. [Le Quien, 1740, coll. 437–438]. Кратковременное завоевание персами этой территории в VI в., а также схожесть названия Феодосиополя Армянского с Феодосиополем в Месопотамии (совр. Рас-эль-Айн) побудили Антиохийский патриархат притязать на эту епископию. Если в самой ранней Notitia Antiochena 570 г. под Феодосиополем, находящимся в подчинении Даре, явно имеется в виду сирийский город, то уже в более поздней редакции XI в.4 в митрополии Феодосиополя, не имеющей отношения к Даре, указаны семь епископств «иверийского» происхождения: Ортрос (груз. Ордро, ἡ Ὄρτρος), Мазнуби (ἡ Μαζνούβη), Маврокастрон (τὸ Μαυρόκαστρον), Агиа Мария (ἡ Ἁγία Μαρία), Аксиекси (ἡ Ἀξιέξη), Таруца (ἡ Ταρούτζα) и Политимос (ἡ Πολύτιμος) [Honigmann, 1935, S. 213–214]. Как показал еще Э. Хонигманн, часть из этих новых антиохийских епархий находилась рядом с «малоазийским» Феодосиополем в области Басиани — спорной пограничной территории, за которую византийцы и грузинские Багратиды боролись друг с другом на протяжении всего периода X–XI вв., а также вблизи бывших армянских государств, присоединенных к империи в первой половине XI в., но на значительном расстоянии от наиболее крупных городов5 [Ibid, S. 214–218]. Часть из этих приведенных топонимов известна и по нарративным источникам. Так, вблизи Ортроса Иоанн Скилица и «Летопись Картли» локализуют знаменитую битву при Капетре между совместной византийско-грузинской армией и сельджукским войском Ибрахима Инала в сентябре 1048 г. (Ioannis Scylitzae, 1973, p. 450.97–99; Картлис цховреба, 2008, с. 157). Что касается Агии Марии (арм. Сурмари), крепости к югу от Ани, то в ней скрывался армянский азат Саркис Хайказн во время борьбы за власть с Гагиком II в 1041 г. (Аристакэс Ластивертци, 1968, с. 81), а в 1046–1047 гг. она была захвачена византийским войском Катакалона Кекавмена и Константина Сарацина в ходе начавшейся войны с шеддадидским эмиром Двина Абу’л-Асваром [Юзбашян, 1979, с. 87–88].
Более того, Э. Хонигманн указывает на существование второй группы рукописей Notitia Antiochena , где те же епархии указаны как суффраганы Дары. Эти три рукописи, одна на греческом и две на армянском языках6, помимо этого, содержат важное дополнение в конце Notitia , согласно которому во владения антиохийского патриарха входили еще три населенных пункта: Вортан (8 км к северу от Панаскерта), Панаскерт и Зибард, «доходящий до Калмахи» [ Honigmann , 1935, S. 218–219]. Э. Хонигманн датировал составление этого дополнения временем после 1055 г., когда Грузинская церковь предположительно получила полную автокефалию от Антиохийской церкви [Ibid, S. 221–222]. Точная датировка этого события неизвестна и в основном опирается на «Житие Георгия Мтацминдели» Георгия Мцире, согласно которому игумен Ивирона участвовал в диспуте в защиту автокефалии Грузинской церкви перед антиохийским клиром и патриархом Феодосием III (1057–1059) ( Гиорги Мцире , 1997, с. 283–286). Однако само провозглашение автокефалии могло состояться еще при патриархе Петре III (1052– 1056), как об этом предположительно пишет Феодор Вальсамон [ Honigmann , 1935, S. 211–212] или при патриархе Иоанне (Дионисии) (1056–1057), при котором началась проверка достоверности притязания грузин на автокефалию ( Гиорги Мцире , 1997, с. 287).
Двое из этих упомянутых топонимов во владениях антиохийского патриарха, Панаскерти и Калмахи, были расположены в Северном Тао [ გამყრელიძე და სხვ . , 2013, გვ . 281–282, 521] и хорошо известны по другим письменным источникам, а также имели важное значение для политических отношений между Византией и Грузинским царством в середине XI в. Так, согласно «Истории и повествованию о Багратионах» Сумбата Давитисдзе, в крепости Панаскерти первый царь объединенной Грузии Баграт III (978–1014) расправился над кларджетскими эри-ставами Сумбатом и Гургеном в 1011 г., сыновья которых после этого вынуждены были эмигрировать в Византию ( Картлис цховреба , 2008, с. 228). Вскоре, в 1014 г. сам Баграт III скончался в Панаскерти, и сама крепость до начала сельджукских набегов в 1064 г. находилась под полным контролем Грузинского царства (Там же, с. 158).
История Калмахи была более драматична. Согласно «Летописи Картли», около 1047 г. эристав Калмахи Сула вместе с эриставом Артануджи Григолом попали в плен к противнику грузинского царя Баграта IV (1027–1072) в междоусобной войне, клдекарскому эриставу Липариту Багваши7, после сражения у Аркисцихе и были подвергнуты суровым пыткам (Там же, с. 156). По словам «Летописи», в отличие от Григола Артануджели, Сула выдержал пытки и не отдал Липариту свою крепость, что, вероятно, было позднее внесено летописцем для подчеркивания незаконности занятия Калмахи Липаритом. Вскоре Сула Калмахели снова принял активное участие в событиях, произошедших после возвращения царя Баграта IV из посольства в Византию, которое датируется 1052/1053 г. [ Косоуров , 2021, с. 48–49]. Недовольные усилением Липарита в Месхети в отсутствие Баграта IV, Сула и другие верные царю месхские дидебулы захватили Липарита вместе с его сыном Иване ( Картлис цховреба , 2008, с. 157). При этом летописец указывает, что пленники для дальнейшей передачи грузинскому царю были уведены Сулой в его вотчину – Калмахи, что усиливает сомнение по поводу предыдущего сообщения «Летописи» о сохранении крепости Сулой после 1047 г. Именно этот захват Сулой Калмахели стал роковым для всей власти Липарита и его противостояния с царем: уведенный вскоре вместе с сыном в Триалети, Липарит под пытками отдал Баграту IV все свои владения, включая родовую вотчину Клдекари, постригся в монахи и ушел в Византию (Там же, с. 177). Что касается сына Липарита, Иване, то он перешел на службу к царю, за что получил во владение Ар-гвети, однако вскоре сбежал на несколько лет в Византию, но затем вернулся в Грузию, получив теперь под управление область Картли вместе с Аргвети (Там же, с. 158).
Все эти описанные в «Летописи Картли» события не имеют точных датировок и определяются по косвенным свидетельствам. Так, Аристакэс Ластивертци сообщает, что Иване Липа-ритид, находившийся в Византии, во время противостояния императора Михаила VI Стратио- тика и его военачальника Исаака Комнина (лето 1057 г.) попытался вместе с сельджуками захватить Феодосиополь, воспользовавшись начавшейся в империи смутой (Аристакэс Ласти-вертци, 1968, с. 110–111). Возвращение же Иване в Грузию точно датируется по рукописям монастыря Кацхи 1059 г. [ჯავახიშვილი, 1983, გვ. 138]. Помимо этого, согласно «Житию Георгия Мтацминдели», в годы патриаршества в Антиохии Феодосия III (1057–1059) сам Липарит, принявший постриг с именем Антоний, уже трудился в качестве переписчика в антиохийском грузинском монастыре Святого Варлаама (Гиорги Мцире, 1997, с. 287). Таким образом, описанное в «Летописи» возвращение крепости Калмахи от союзного империи Липарита к центральной грузинской власти можно точно датировать временем между 1052/1053 гг. (приезд Баграта IV из Византии) и 1057 г. (деятельность Иване Липаритида в Византии после бегства из Грузии).
Кроме того, в уже упоминавшемся «Завещании Евстафия Воилы» имеются сведения о владении протоспафарием вотчинами Калмухи (Καλμουχῇ), Офидовуни (Ὀφιδοβούνι) и Кусне-риа (Κουσνέρια), которые были переданы им дуке Михаилу до 1059 г. [ Lemerle , 1977, p. 22]. В исследовательской литературе уже отмечалась схожесть первого топонима с местностью Калмахи в регионе Тао-Кларджети8 [ Vryonis , 1957, p. 275–276; Бартикян , 1961, с. 32]. Более того, вотчина Офидовуни также может быть локализована в этом регионе и соответствовать кларджетским селениям Опиза или Описчала, к северу от Артануджи [ Бартикян , 1961, с. 32]. Помимо этого, известно, что сам Евстафий Воила обосновался в своих новых владениях в феме Иверия и Великая Армения в период 1051/52–1053 гг. [ Юзбашян , 1974, с. 76–77]. Такая датировка совпадает по времени с упоминавшимся возращением грузинского царя Баграта IV из византийского посольства (1052/1053 г.), что позволяет сопоставить данные «Завещания» с рассмотренными сведениями из «Летописи Картли» о потере власти Липаритом Багваши между 1053 и 1057 г. Ключевой момент здесь заключается в факте передаче Воилой его вотчин Офи-довуни, Куснерии и Калмухи главе местной византийской администрации, дуке Михаилу, в период до 1059 г.9, что соответствует истории отторжения подчиненных Липариту земель в Северном Тао и Кларджети враждебными ему эриставами, известной по «Летописи». Таким образом, очень вероятно, что в период с 1047 по 1053/1057 г. часть территории Северного Тао, включая Калмахи, находилась под византийским контролем, однако из-за столь недолгого владения этой территорией на ней не успели до конца оформиться полноценные институты имперской администрации.
В этой связи передача контроля над Калмахи и другими вотчинами в Северном Тао в собственность зависимого от Константинополя Антиохийского патриарха, весьма вероятно, была прямым ответом на описанные политические события со стороны Византии. Как уже упоминалось, именно в 50-е гг. XI в., согласно «Житию Георгия Мтацминдели», обостряются различные споры между сирийскими и грузинскими монахами, куда впоследствии оказываются вовлечены и первоиерархи Антиохийской и Грузинской церквей соответственно. Кульминацией этого конфликта стал диспут в присутствии антиохийского патриарха Феодосия III (1057– 1059) между настоятелем грузинского Иверского монастыря Георгием Мтацминдели и антиохийском клиром по поводу легитимности автокефалии Грузинской церкви. Примечательно, что, согласно тексту «Жития» ( Гиорги Мцире , 1997, с. 283–287), начало разладу в отношениях Церквей было положено еще при предшественниках Феодосия III, Петре III (1052–1056) и Иоанне (Дионисии) (1056–1057), то есть начало этого конфликта хронологически совпадает с разгромом византийского союзника Липарита Багваши и возвращением под контроль Баграта IV земель Северного Тао, на короткий срок вошедших в состав фемы Иверия. Весьма вероятно, что процесс включения земель Северного Тао в «собственность антиохийского патриарха» начался именно в 1047–1053/1057, а последующий, при патриархе Феодосии III, конфликт с Грузинской церковью лишь окончательно оформил юридически притязания Антиохии на упомянутые картвельские земли.
Таким образом, обустройство церковной жизни на территории новосозданной фемы Иверия было закреплено Византией за Антиохийской церковью на основании ошибочной трактовки Notitia Antiochena 570 г., а также факта прошлого подчинения Грузинской церкви Антиохийскому патриархату. Дальнейшая территориальная экспансия империи на восток, в земли Багратидов, привела к созданию четкой церковной структуры митрополии Феодосиополя с семью суффраганами, локализуемыми на территории бывшего Анийского царства. Наиболее яр- ким примером этого одновременного политического и церковного продвижения Византии стала попытка империи закрепиться на территории Северного Тао в период 1047–1053/1057 гг., известная по «Летописи Картли» и «Завещанию Евстафия Воилы». Здесь местные вотчины Вортан, Панаскерт и Зибард (вкл. Калмахи) были объявлены «собственностью Антиохийского патриарха», дополнительной причиной чего стал острый конфликт между Антиохией и Мцхе-той по поводу подтверждения автокефалии Грузинской церкви в 50-е гг. XI в. Тем не менее, быстрый возврат земель Северного Тао грузинским царем Багратом IV между 1053 и 1057 гг., а также последующая манцикертская катастрофа 1071 г. и скорая ликвидация фемы Иверия не позволили Византии и Антиохийской церкви полноценно реализовать церковное обустройство в этом регионе.
Список литературы К вопросу о церковном статусе и религиозной ситуации в византийской феме Иверия
- Бартикян Р.М. Критические заметки о завещании Евстафия Воилы (1059 г.) // Византийский временник. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 19. С. 26-37.
- Косоуров Д.А. Два посольства Баграта IV в Константинополь: датировка, причины и последствия // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2. Гум. науки. Екатеринбург: Изд-во Урал. федер. ун-та (УрФУ), 2021. Т. 23, № 1. С. 40-54.
- Лордкипанидзе М.Д. Из истории византийско-грузинских взаимоотношений (70-е годы XI в.) // Византийский временник. М.: Изд-во АН СССР, 1979. Т. 40. С. 92-95.
- Папаскири З.В. От Давида до Давида. Из истории международных отношений Грузии. 70-е годы X - 80-е годы XI вв. Тбилиси: Тип. "АНИ-XXI", 2001. 114 с.
- Степаненко В.П. Захария архиепископ и Ивир. К толкованию понятия Ивир в источниках XI в. // Иностранцы в Византии. Византийцы за рубежами своего отечества: тезисы докладов конференции, Москва, 23-25 июня 1997 г. М.: Индрик, 1997. С. 46-48.