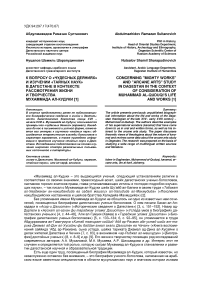К вопросу о "чудесных деяниях" и изучении "тайных наук" в Дагестане в контексте рассмотрения жизни и творчества Мухаммада ал-Кудуки
Автор: Абдулмажидов Рамазан Султанович, Нуцалов Шамиль Шарапудинович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены ранее не публиковавшиеся биографические сведения о жизни и деятельности дагестанского богослова конца XVII -начала XVIII в. Мухаммада ал-Кудуки; описываются примеры его «чудесных деяний» (карамат), дошедшие до нас в письменной и устной форме, отмечается его интерес к изучению «тайных наук»; обсуждаются теоретические взгляды богословов о характере караматов, а также приведена информация о практике изучения «тайных наук» в Дагестане. Исследование подготовлено на основе изучения широкого спектра разноязычных письменных источников и литературы.
Ислам в дагестане, мухаммад ал-кудуки, карамат, "тайные науки", илм ал-харф, алхимия
Короткий адрес: https://sciup.org/14940749
IDR: 14940749 | УДК: 94:297.17(470.67)
Текст научной статьи К вопросу о "чудесных деяниях" и изучении "тайных наук" в Дагестане в контексте рассмотрения жизни и творчества Мухаммада ал-Кудуки
«Мухаммад ал-Кудуки - это выдающийся ученый, следующий установлениям религии в соответствии со своими знаниями, превосходный аскет, шейх дагестанских ученых-богословов, наставник горских знатоков права, глава устанавливающих истины и господин подробно изучающих науки», - так писал о Мухаммаде ал-Кудуки шейх Шу‘айб ал-Багини в своем труде « Табакат ал-Хваджакан ан-накшбандийа ва садат маша’их ал-Халидийа ал-Махмудийа » («Поколения накшбандийских наставников и шейхов братства Халидийа-Махмудийа») [2].
Без упоминания имени Мухаммада ал-Кудуки не обошлось ни одно из известных нам сочинений, посвященных биографиям дагестанских ученых-богословов. О нем писали Хасан ал-Ал-кадари в « Асар-и Дагистан » («Исторические сведения о Дагестане») [3, с. 151-152], Назир ад-Дургели в « Нузхат ал-азхан фи тараджим ‘улама’ Дагистан » («Услада умов в биографиях дагестанских ученых») [4, с. 44-48], ‘Али ал-Гумуки (Каяев) в « Тараджим ‘улама’Дагистан » («Биографии дагестанских ученых-богословов») [5, с. 133-134; 6, с. 92-95], он упоминается в труде Абдуррахмана ал-Газигумуки « Китаб тазкират саййид Абд ар-Рахман ибн устад шайх ат-тарика Джамал ад-Дин ал-Хусайни фи баййан ахвал ахали Дагистан ва Чачан » («Книга воспоминаний саййида ‘Абд ар-Рахмана, сына устада, шайха тариката Джамал ад-Дина ал-Хусайни о делах жителей Дагестана и Чечни» [7, с. 83], в анонимном « ар-Риджал ал-машхурун » («[Биографии] достойных ученых») [8, с. 8-9] и др. [9]. Его жизни и творчеству посвящен ряд исследований современных авторов: А.А. Мусаловой, М.А. Мусаева, А.Р. Шихсаидова и др. Интерес этот не случаен и определяется той ролью, которую сыграл Мухаммад ал-Кудуки в становлении и развитии дагестанской научной и образовательной традиции.
Есть еще один труд, посвященный биографии Мухаммада ал-Кудуки, который известен, но незаслуженно оставлен без внимания, - это биография ученого-богослова, написанная на арабском языке известным специалистом в области мусульманских наук и знатоком истории ислама в Дагестане Магомедом Гаджиевичем Нурмагомедовым (12.08.1909-23.04.1997). Работа ценна тем, что ее автор известен как собиратель образцов письменной культуры, скрупулезно исследовавший множество книжных собраний в Дагестане. В тексте, написанном на арабском языке, он несколько раз указывает, что использованные для его написания источники хранятся в его личной коллекции. В работе приводятся интересные сведения, которые частично заполняют пробелы в наших знаниях о жизни и деятельности Мухаммада ал-Кудуки:
«Первоначальное образование ал-Кудуки получил у себя на Родине. По обычаю дагестанских ученых, ал-Кудуки в первую очередь изучил Коран у своего отца Мусы из Кудутля. У него же он изучил и “ Мухтасар ас-сагир ” (‘Али ал-Кабир ал-Гумуки ад-Дагистани), “ Тасриф ал-‘Иззи ” (аз-Занджани) и комментарии к нему [в книге] “ Шарх Тасриф ал-Иззи ” (ат-Тафтазани) [10]. Все это он изучал еще в детстве, когда ему было примерно восемь лет - с 1571 [11] до 1660 г. Когда ему исполнилось примерно пятнадцать лет, он начал обучение в различных медресе Дагестана. Сначала он пришел в селение Аракани, которое находится по соседству с Кудутлем. Затем, после этого он отправился в селение Ругуджа и получал знания у Абу-Бакр-дибира ар-Ругджи, отца Марйам, на которой он [впоследствии] женился.
После этого он отправился в селение Согратль и стал учеником известного ученого ‘Али-Рида ас-Сугури, который был специалистом в области мусульманского права и толкования Корана. Затем в поисках знаний он отправился в селение Тидиб, где обучался у Мухаммада ат-Тиди.
Странствуя в юности в поисках знаний, он встретился с Дамаданом, сыном Йаʻкуба из Ме-геба, который обучался в Азербайджане и Иране. Согласно некоторым сведениям, ал-Кудуки тоже отправился с ним в эти страны, но ал-Кудуки вернулся на Родину, а Дамадан ал-Мухи остался там, пока не завершил учебу и не получил желаемого [результата].
В селении Обода жил крупнейший ученый Ша‘бан, сын Исма‘ила ал-‘Убуди, который был главным кадием при [хунзахском] хане Дугри-нуцале. В селении Обода у него было огромное медресе. Мухаммад ал-Кудуки отправился к нему и обучался у него арабским наукам. В ободин-ской мечети была специальная комната, в которой учился Мухаммад ал-Кудуки.
Затем ал-Кудуки отправился в арабские страны. Он побывал в Египте и получил знания от лучших ученых. Ему сказали, что в Мекке есть ученый - обновитель религии ( муджаддид ), самостоятельно толкующий религиозно-правовые вопросы ( муджтахид ), которого зовут Салих ал-Йамани. Он отправился в Мекку, встретился с ним и стал его учеником. Говорят, что с ним был и Дамадан ал-Мухи. В первый раз, когда они зашли к Салиху, он заставил их читать суру “ ал-Фатиха ”. Ал-Кудуки он остановил и исправил в трех местах, а Дамадана не остановил ни разу и объяснил это тем, что Дамадан не прочитал суру как следует, а чтение ал-Кудуки было близко к правильному.
Однажды весной ал-Йамани отправил ал-Кудуки засеять свою пашню, внезапно пошел дождь и поднялся сильный ветер. В руках у ал-Кудуки была большая войлочная шапка, которой он прикрывался от дождя. Вдруг, откуда ни возьмись, на пашне появилась красивая женщина и поспешила к ал-Кудуки, чтобы прикрыться от дождя его шапкой. Когда она приблизилась, Мухаммад сбежал от нее, из набожности не прикоснувшись к ней и пальцем. Затем, когда ал-Кудуки вернулся с пашни, ал-Йамани сказал ему: “Ты допущен в мое медресе для получения знаний”.
В медресе Салиха ал-Йамани Мухаммад ал-Кудуки обучался в течение семи лет, как об этом упомянул Са‘ид ал-Кудуки. После возвращения из Мекки и получения высокой степени в области таких наук, как мусульманское право, хадисоведение, толкование Корана, арабская литература, он преподавал в селении Корода. В качестве доказательства высокой степени знаний и достоинства ал-Кудуки как ученого-богослова достаточно привести то, что муджтахид ал-Йа-мани написал книгу “ ал-‘Илм шамих фи исар ал-хакк ‘ала ал-аба ва ал-маша’их ” (“Великие знания о предпочтении истины перед [мнением] родителей и наставников”), в которой он открыто указал: “Я написал эту книгу для Мухаммада б. Муса ад-Дагистани”» [12, с. 1-6].
Далее М.Г. Нурмагомедов приводит образцы переписки между Мухаммадом ал-Кудуки и Салихом ал-Йамани, которая свидетельствует о постоянных научных контактах между учеником и учителем. Он также вскользь упоминает об интересе ал-Кудуки к эзотерике, на что более конкретно указывает Шу‘айб ал-Багини: «Мухаммаду ал-Кудуки принадлежат удивительные чудесные деяния (карамат) и с ним [происходили] нравоучительные истории. В “науке [о свойствах] буквы” (‘илм ал-харф) [13] и сокровенном применении имен Всевышнего Аллаха он был подобен Ахмаду ал-Буни. Он часто применял науку [о свойствах] буквы, чем приносил огромную пользу. Его учителем в этой науке был шейх, ученый Дамадан ал-Мухи» [14, с. 399].
Полное имя вышеупомянутого ал-Буни - Абу ал-‘Аббас Ахмад ал-Курайши ас-Суфи Мухйи адДин (варианты: Таки ад-Дин, Шихаб ад-Дин) ал-Буни. Это арабский ученый, который написал около сорока трудов, посвященных магии. Он был родом из г. Аннаба, расположенного на севере современного Алжира. Есть сведения, что ал-Буни умер в Каире в 622 г. х. (1225 г.), где и похоронен.
Основной труд ал-Буни - четырехтомный «Китаб Шамс ал-ма‘ариф ва лата’иф ал-‘ава-риф» («Светило познаний и тонкости даров»). В 40 главах этой книги содержатся материалы, относящиеся к магическим практикам: использование чисел, магические буквенные квадраты, определенные аяты Корана, имена Аллаха, использование имени матери Моисея (Муса), а также пояснения к написанию оберегов. Таким образом, в книге рассматриваются все вопросы, относящиеся к науке о [свойствах] букв (‘илм ал-хуруф) и науке «определения благоприятного момента» (‘илм ал-авфак).
Это его сочинение, известное в трех вариантах, является скорее подборкой средств и методов, базирующейся в большей степени на современной ему популярной традиции, чем на литературе, воспринятой от эллинистического мира. Как и всякие магические действия, эти практики служат для исполнения желаний и защиты от трудностей через влияние на «сверхъестественные» силы, которые не могут быть постижимы разумом или чувствами. В конце работы ал-Буни указывает, что «тайны букв» не могут быть объяснены логическим путем, они могут стать доступны только лишь посредством изучения и божественного вмешательства. В его труде имеется также глава по алхимии. Другие известные его работы также посвящены изучению «сверхъестественного». Известный ученый Ахмад б. Мустафа Ташкупризаде (ум. 968 г. х. / 1560 г.) в одном из своих трудов скопировал большую часть магических средств противодействия чуме, изложенных ал-Буни [15, р. 156-157].
Термин ‘илм ал-хуруф или ‘илм ал-харф первоначально понимался как гадание на именах собственных с раскрытием их тайных смыслов, но впоследствии смысл, заложенный в этот термин, значительно расширился. В практике науки о свойствах букв использовались: разделение букв арабского алфавита на солнечные и лунные, на четыре «стихии», в каждой из которых по семь букв; придание буквам цифровых эквивалентов и цифрам буквенных; соотнесение букв с определенными веществами, минералами и астрономическими объектами (что определяло тесную связь с алхимией и астрологией) и т. д. Важной частью ‘илм ал-хуруф стали девяносто девять «Прекраснейших имен Аллаха» (асма’ Аллах ал-хусна) . Считалось, что изучением божественных текстов, методами, основанными на тайных свойствах букв, можно было проникнуть в божественные тайны. Если первоначально целями науки [о свойствах] букв были видение будущего и применение средств к его формированию, то впоследствии некоторые апологеты стремились с помощью илм ал-хуруф к прозрению ( кашф ) [16, р. 595-596].
Необходимо отметить, авторы дагестанских биографических работ сообщают, что интерес к «тайным наукам» и алхимии проявлял и известный дагестанский ученый Дамадан ал-Мухи [17]. Назир ад-Дургели писал: «Он... из тех, кто был особенно сведущ в науке о [свойствах] букв и определении благоприятного момента, в астрономических таблицах ( зидж ), календарях и др. .. .О нем рассказывают удивительные чудеса. Говорят, что он знал Величайшее Имя Всевышнего Аллаха ( исм Аллах ал-а‘зам ), - когда Его просят посредством этого имени, Он одаряет, а когда к Нему взывают посредством него, Он отвечает. Этому он научился у некоторых своих арабских учителей» [18, с. 49].
‘Али ал-Гумуки (Каяев) писал об ал-Мухи: «Среди дагестанцев и ученых региона существовало мнение, что Дамадан получал золото и серебро с помощью алхимии так, что их невозможно было отличить от настоящих. Его образцы поддавались ковке и не ломались, как они ломались у других. Однако он скрывал свои способности, как и другие, которые занимались этой [наукой], как это было принято у прежних химиков. Также считалось, что Дамадан владел наукой магии чисел ( джафр ), более известной среди дагестанцев как “наука о свойствах цифр”, и что он знал книгу, которую называют “ Сирр ар-Рабан ” (“Божественные сокровения”) [19], - одну из книг по этой науке. Он использовал ее для познавания тайного, предсказывая людям то, что должно было случиться. Всегда получалось так, как он предсказывал. Рассказывается об одном из таких случаев. Однажды он, придя в селение Джар ( Чар ), центр Закатальского общества, увидел на пустыре огромный валун и рассказал людям, что русские на этом месте построят огромную крепость, а этот валун заложат в фундамент. Люди в то время даже не знали, кто такие русские, только слышали о них. И случилось так, как сказал Дамадан. Русские на том месте построили крепость более чем через сто лет после предсказания Дамадана [20]. В основу они заложили именно этот камень» [21, с. 94].
Как видно из этих сообщений, Дамадан ал-Мухи проявлял устойчивый интерес к эзотерике, занимался «тайными науками» (илм ал-харф, илм ал-авфак, ‘илм ал-джафр, илм ан-нуджум (астрология)) и передал свое пристрастие к ним и Мухаммаду ал-Кудуки. О том, что ал-Кудуки интересовался и занимался ‘илм ал-хуруф , косвенно может свидетельствовать то, что он является автором сочинения « Шарх асма’ Аллах ал-хусна » («Комментарий к [сочинению] о прекрасных именах Аллаха») [22]. Известно также, что в с. Кудутль хранятся черепки с записанными на них буквами, которые местное население до сих пор использует для обряда вызова дождя [23, с. 64-65].
Этим двум ученым-богословам - Дамадану ал-Мухи и Мухаммаду ал-Кудуки, приписываются «чудесные деяния» ( карамат ). Некоторые из них зафиксированы Шу‘айбом ал-Багини: «Устанавливающий истины шейх ал-Кудуки был однажды вечером в селении Кудутль. Когда он пришел домой после вечерней молитвы, он нашел свою жену готовящей нежные вкусные чуду [24] ( адрифа )
и сказал: “Наш брат Дамадан очень любит эти чуду”, - и произнес эту фразу трижды. Как только он завершил произносить в третий раз, к ним зашел Дамадан. Шейх ал-Кудуки спросил: “Почему опоздал, брат?” Он ответил: “Когда ты сказал в первый раз, я совершал молитву в своем доме в Мегебе и произносил свидетельство [в конце молитвы] ( ташахуд ); когда ты сказал во второй раз, я надевал свою обувь; когда ты сказал в третий раз, я прибыл к тебе”. Расстояние между их селениями два дня пути, или больше этого» [25, с. 185-186; 26, с. 223; 27, с. 158].
Другой карамат ал-Кудуки Шу‘айб ал-Багини приводит со слов ученика Мухамммада ал-Кудуки Махада ал-Чухи, который сказал: «Я был учеником у устанавливающего истины ученого ал-Кудуки в селении Ругуджа. Он жил там большую часть времени по причине того, что его жена, а также его тесть и наставник Абу-Бакр жили в Ругуджа. Это большое селение, которое находится рядом с Гунибской крепостью [28]. Шейх ал-Кудуки, да будет доволен им Аллах, по пятницам поднимался на крышу мечети и, глядя на Чох, говорил: “Его сожгут в пятницу”». Далее по тексту Шуʻайб довольно подробно описывает штурм укрепленного селения Чох войсками Шамиля в 1261 г. х. (1845 г.). На девятый день укрепление было взято. «Днем пятницы селение Чох было сожжено. Случилось то, что Мухаммад ал-Кудуки говорил более ста лет назад», - заключил ал-Багини [29].
В то же время большая часть преданий о караматах дошла до нас в устной форме и зафиксирована современными исследователями и собирателями религиозных и исторических преданий. Одно из них гласит, что однажды одна из девушек, шедшая в группе подруг за водой, бросив кувшин, накинулась на сына ал-Кудуки, который шел на коллективную молитву в мечеть, и вцепилась в его шею с воплями о помощи. Когда же она успокоилась и началось разбирательство, девушка сказала, что ей показалось будто бы она оказалась посреди бушующего моря (иная версия - разлившейся реки) и увидела путь к спасению лишь в столбе (иная версия - в дереве), торчавшем из воды, к которому она и бросилась. Юноша ситуацию никак объяснить не смог, сославшись на ошибку в чтении заклинаний [30, с. 66-70; 31, с. 62].
Существует и другая версия этого случая, по которой молодежь требовала от сына ал-Кудуки показать им его успехи в изучении тайных знаний под руководством отца - влюбить в себя девушку. После усмешек и издевательств он согласился, вслед за чем и произошел вышеупомянутый случай с девушкой [32, с. 67].
По преданиям ал-Кудуки передал своему сыну книгу « Сирр ар-Рабан » с наказом бросить в реку (вероятно, этот случай имел место после вышеуказанного происшествия. - авт.). Сыну не хотелось лишаться этой книги, и он дважды прятал ее, а отцу сообщал, что исполнил его волю. На вопрос отца: «Что стало с рекой, когда ты бросил в нее книгу?» - вразумительного ответа сын дать не мог. По этой причине он вновь отправил его выполнить его требование. В третий раз сын ал-Кудуки на самом деле бросил книгу в реку и сказал отцу, что «река раздвоилась так, что я смог увидеть, как книга дошла до абсолютно сухого дна реки, затем волны опять сошлись, но цвет волн некоторое время был багрово-красным, и опять все стало по-прежнему, как обычно», тогда ал-Кудуки сказал сыну: «Вот теперь, наконец, ты бросил книгу в реку». На вопрос сына, почему он захотел расстаться с книгой, ал-Кудуки ответил: «Я не знаю, в чьи руки может попасть эта книга после меня и тебя, скажем, через сто и двести лет. Я не хочу, чтобы вдруг какой-нибудь непорядочный человек использовал силу этой книги во вред кому-либо» [33, с. б8; 34, с. 62-63].
По другой легенде, когда у представителей ругуджинского тухума Гамшалал произошел конфликт с членами другого местного тухума, они обратились с просьбой вынести решение по шариату к Мухаммаду ал-Кудуки. Правовое заключение удовлетворило молодежь рода Гамша-лал, поскольку оно было вынесено на основе шариата, но старшие представители рода остались неудовлетворенными и потребовали решения по нормам обычного права. Мухаммаду это не понравилось, и он произнес: «Да не переведутся у вас ягнята, и да не взрастут бараны». С тех пор в тухуме Гамшалал мужчины не доживают до старости, но род не иссяк [35, с. 66].
Караматов, связанных с именем Мухаммада ал-Кудуки, довольно много, некоторые из них зафиксированы Багаутдином Аджаматовым. В одном из них повествуется о том, что один кудут-линец спросил у Мухаммада, будут ли приняты Всевышним все его молитвы. На этот вопрос ал-Кудуки ответил, что «знать этого не может, но, например, сегодняшнюю утреннюю молитву, во время которой ты обдумывал, как ловчее скосить часть соседского поля и присвоить чужое сено себе, - я не знаю, Аллах примет или нет» [36, с. 64].
Интересен тот факт, что устные предания о чудесных деяниях Мухаммада ал-Кудуки находят косвенное подтверждение. Например, из письменных источников нам известно, что семейство ал-Кудуки было вынуждено переехать из Ругуджа в Корода (вероятно, по причине вышеуказанного инцидента с участием его сына и девушки); уничтожение религиозной литературы в соответствии с нормами шафиитской правовой школы осуществляется с использованием проточной воды (как в случае с книгой «О сокровенных знаниях»). Что касается одного из вышеуказанных преданий, то эпизод является весьма характерным, поскольку известна историческая приверженность старшего поколения дагестанцев к привычным для них обычаям.
В мусульманской традиции термин «карамат» используется, чтобы обозначить чудеса «святых», «друзей Бога», «приближенных Всевышнего» ( авлийа , ед. ч. валий ; валий Аллах ), которым Аллах предоставляет возможность их совершать. Под чудом понимается экстраординарный случай, который ломает «божественный обычай» ( суннат Аллах ) [37, р. 615]. Известный современный иракский ученый, профессор богословия ‘Абд ал-Малик ас-Са‘ди, в своем комментарии к сочинению « ал-Акаид ан-Насафийа » богослова Абу Хафса Наджм ад-Дина Умара б. Мухаммада ан-Насафи (ум. в 1142 г.) приводит традиционную градацию чудесных деяний:
« Муʻджиза » – чудо, необычное деяние или явление, совершаемое человеком, провозгласившим себя пророком.
« Карама », или « Карамат » – малое чудо, необычное деяние и явление, совершаемое праведником, не объявляющим себя пророком. Оно даруется праведникам, приближенным к Аллаху, т. е. авлийа .
« Истидрадж » («искушение») – зловредное чудо, необычное деяние или явление, совершаемое неверным или грешником. Это чудо может иметь целью унижение этого человека, как это произошло в случае с Мусайламой ал-Каззабом, когда к нему пришел слепой на один глаз и попросил его излечить. Когда же Мусайлама протянул к нему свою руку, то мужчина полностью ослеп. В другой раз у Мусайламы попросили опреснить соленый колодец, он плюнул в него, но вместо опреснения произошел сильный выброс воды. Примерами более мелких истидрадж неверных могут быть факты, когда Аллах дарует им богатство, здоровье и процветание в этом мире. В Коране по этому поводу сказано: «Мы одного за другим будем искушать так, что они и не заметят» (7:182) [38].
« Маʻуна » – добродетельное чудо, необычное деяние или явление, дарованное простому мусульманину.
Также ‘Абд ал-Малик ас-Са‘ди отмечает, что различие между чудесным деянием и колдовством состоит в том, что последнее представляет собой определенные приемы и ритуалы, имеющие целью навеять на человека иллюзии. Что же касается чудесного деяния, то это реальное деяние, нечто сверхъестественное, противоречащее известным законам [39, с. 143–144].
Истинность чудес праведников (карамат), их возможность богословы подтверждают доводами из Корана (3:37; 27:40; 18:9-31), сунны (хадис) и преданий ( асар ) [40, с. 144-145; 41, с. 70].
Далее ас-Са‘ди пишет: «Некоторым праведникам Аллах даровал сокрытые знания и тайны. Некоторые могут это опровергнуть и привести аяты: “Сокровенное (ал-гайб) принадлежит только Аллаху” (10:20), “Он - Ведающий о сокровенном (ал-гайб) . И Он никому не откроет Своего сокровенного” (72:26). На это можно ответить двумя способами.
Во-первых, определенный артикль (алиф-лам) в слове “ ал-гайб ” несет значение общего, т. е. “никто, кроме Аллаха, не знает всего сокрытого”, следовательно, некоторые могут частично знать сокрытое. Что касается второго аята, то в нем присутствует исключение: “за исключением тех посланников, которыми Он доволен” (72:27). Следовательно, можно допустить, что Аллах мог информировать некоторых из своих рабов о том, что скрыто от человеческих чувств.
Во-вторых, сокрытое называется сокрытым только до тех пор, пока оно не известно другим. Знание сокрытого является только прерогативой Аллаха, поскольку Он знает сокрытое своей сущностью и не нуждается в открытии занавеса. Если же занавес сокрытого поднят, то оно перестает быть сокрытым. Поэтому в данном случае под малым чудом имеется в виду именно поднятие занавеса. До открытия занавеса информация называется сокрытой, а после открытия занавеса она перестает быть таковой» [42, с. 146].
Основными критиками допустимости и возможности караматов являлись му’тазилиты. Они были единодушны в отрицании подлинности чудесных деяний, которые они клеймили как «уловки шарлатанов». Муʼтазилиты считали карамат недопустимым, поскольку это преградило бы путь к познанию пророка и посланника. Другой причиной недопустимости они считали то, что в этом нет никакой пользы, в отличие от муʻджиза . В муʻджиза есть крайняя нужда, чтобы отличать истинного пророка от лжепророка, а нужды в определении приближенного Всевышнего ( валий ) нет никакой, так как на мусульман не возлагается обязанность верить в то, что кто-то является святым ( валий ). По мнению аш‘аритов и матуридитов , карамат допустим и не является невозможным.
Вот как отвечает муʼтазилитам на их критику Абу Муʻин ан-Насафи в своем труде «Тамхид ли-кава‘иди тавхид» («Введение в основы единобожия»): «Нет поводов не принимать на веру рассказы, которые распространились от праведников мусульманской общины (умма) относительно караматов, да смилуется над ними всеми Аллах. Что касается утверждений муʼтазилитов о том, что это перекрывает путь к определению истинности пророка и посланника, то это абсурд. Более того, каждое чудесное деяние святого (валий) в свою очередь является му‘джиза посланника. Чудесным деянием познается, что он приближенный Всевышнего (валий), а таковым он может быть только в том случае, если будет последователем истинной религии. Исповедующий же ложную религию будет являться не приближенным Аллаха, а его врагом. То, что святой (ва-лий) исповедует истинную религию, в свою очередь является подтверждением посланнической миссии пророка, а то, что он следует за своим пророком, является доказательством правдивости посланнической миссии пророка. Тот, кто считает карамат, который является муʻджиза посланника и доказательством его правдивости, фактором, аннулирующим муʻджиза и перекрывающим путь к достижению познания истинных пророков, тот допускает явную и грубую ошибку. Как это может привести к путанице между карамат и муʻджизат, когда муʻджизат демонстрируется как доказательство посланнической миссии, а приближенный Аллаха (валий), если станет утверждать это, тотчас же станет неверным и врагом Всевышнего? И еще, обладатель муʻджизат не скрывает его, а демонстрирует, а обладатель карамата старается его скрыть и испытывает страх, что такая способность дарована ему как обольщение, а не как карамат и боится самообольщения. Все это указывает на допустимость карамата, а муʻтазилиты не познали заключенной в ней мудрости. В нем также есть польза в утверждении посланнической миссии пророка, в которого уверовал приближенный Аллаха (валий), обладающий караматом, его превращение в подобного тому из эпохи пророка, кто стал свидетелем его муʻджизат. Это в свою очередь становится для него мотивом проявлять еще большее усердие в поклонении Всевышнему и предостережении от дурного, дабы сохранить свое высшее место и благородную степень, не дать своему высокому положению подвергнуться изменениям или вовсе исчезнуть» [43, с. 252].
Таким образом, совершение «чудесных деяний» признается основными школами мусульманского богословия и находит свое обоснование в аятах Корана, хадисах и преданиях ( асар ). Дагестанскому ученому-богослову конца XVII – начала XVIII в. Мухаммаду ал-Кудуки письменная и устная традиции приписывают множество караматов. Кроме того, традиция приписывает ал-Кудуки занятие «тайными науками», которым его научил его современник, другой известный дагестанский богослов Дамадан ал-Мухи.
Ссылки и примечания:
-
1. Исследование подготовлено при финансовой поддержке проекта РГНФ № 15-01-00389 «Критика салафизма в трудах дагестанских богословов XVII – начала XX в.».
-
2. Подробнее об этом сочинении см.: Мусаев М.А., Шихалиев Ш.Ш. Чудесные деяния святых в арабоязычных суфийских биографических сочинениях дагестанских шейхов начала XX века // Письменные памятники Востока. 2012. № 2 (17). С. 218–232.
-
3. Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан / вступ. ст., коммент., примеч. и общ. ред. В.Г. Гаджиева. Махачкала, 1994. 159 с.
-
4. Ад-Дургели Н. Услада умов в биографиях дагестанских ученых: Дагестанские ученые и их сочинения / пер. с араб., коммент., факс. изд., указ. и библиогр. подгот. А.Р. Шихсаидовым, М. Кемпером, А.К. Бустановым. М., 2012.
-
5. Kayayev A. Teracim-i Ulema-yi Dagıstan. Dağıstan Bilginleri Biyografileri / hazırlayanlar: Dr. Hasan Orazayev, Dr. Tuba Işınsu Durmuş. Ankara, 2012. 160 s. На тур. яз.
-
6. Мусаев М.А. Дагестанские арабографические биографические и историко-биографические сочинения второй половины XIX – начала XX века и место в них ученого-богослова XVII–XVIII веков (на примере Дамадана ал-Мухи) // Исламоведение. 2012. № 4. С. 88–96.
-
7. Абдурахман из Газикумуха. Книга воспоминаний / пер. с араб. М.-С. Саидова ; ред. пер., подгот. факс. изд., коммент., указ. А.Р. Шихсаидова, Х.А. Омарова. Махачкала, 1997. 868 с.
-
8. Шихсаидов А.Р. Письменные памятники Дагестана (жанр биографий) // Письменные памятники Дагестана XVII– XIX вв. Махачкала, 1989. С. 5–14.
-
9. Подробнее о дагестанских арабоязычных биографических сочинениях см.: Шихсаидов А.Р. Письменные памятники Дагестана … ; Мусаев М.А. Дагестанские арабоязычные биографические и историко-биографические сочинения XIX – начала XX в. [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. URL: www.sci-ence-education.ru/115-11933 (дата обращения: 10.10.2016).
-
10. Вероятно, под «Мухтасар ас-сагир» подразумевается сочинение дагестанского ученого ʻАли ал-Кабир ал-Гумуки ад-Дагистани (ум. в 935 г. х. / 1528–29 г.), где содержатся знания начального уровня о вере, исламе и сунне. Автором «Тасриф ал-ʻИззи» является ʻИзз ад-Дин аз-Занджани. Это сочинение по морфологии арабского языка. «Шарх Тасриф ал-ʻИззи» – комментарий к последнему сочинению, написанный Саʻд ад-Дином Масʻудом ат-Тафтазани. См.: Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская рукописная книга в Дагестане. Махачкала, 2001. С. 145–146.
-
11. Автор допустил описку.
-
12. Нурмагомедов М.Г. Дагестанская литература на арабском языке (биографические сведения о Мухаммаде из Кудутля, Саиде из Аракани и Шабане из Обода). На араб. яз. // Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии Дагестанского НЦ РАН. 1992. Ф. 3. Оп. 1. Д. 553. 28 с.
-
13. В отношении данной науки употребляется также термин «ʻилм ал-хуруф» (харф – буква, хуруф – буквы); буквально можно перевести как «наука буквы», «наука букв», «наука письмён», где подразумеваются определенные их (букв, письмён) свойства.
-
14. Ал-Багини Шуʻайб б. Идрис. Табакат ал-Хваджакан ан-накшбандийа ва садат машаʼих ал-Халидийа ал-Махмудийа. Да-
. شعيب بن ادريس الباكنى. طبقات الخواجكان النقشبندية و سادات المشائخ الخالدية المحمودية. دمشق: دار النعمان للعلوم، 2003 . :.маск, 2003. 550+80 с. На араб. яз
-
15. Dietrich A. Аl-Buni // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden, 2004. Vol. XII. Supplement. P. 156–157. На англ. яз.
-
16. Fahd T. Huruf (ʻilm al-) // Ibid. Leiden, 1986. Vol. III. P. 595–596. На англ. яз.
-
17. Сфера его научных интересов была значительно шире. Например, Дамадан перевел трактат по медицине «Тухфат ал-му’минин» («Подарок правоверным») и зиджи Улугбека вместе с комментариями к нему с персидского на арабский язык, чтобы сделать данные труды доступными для дагестанцев. См.: Мусаев М.А. Дагестанские арабографические биографические и историко-биографические сочинения второй половины XIX – начала XX века … С. 93–94.
-
18. Ад-Дургели Н. Указ. соч. С. 49.
-
19. Сборник молитв и др., которые использовались в магических целях.
-
20. Закатальская крепость была построена в 1830 г.
-
21. Мусаев М.А. Дагестанские арабографические биографические и историко-биографические сочинения второй половины XIX – начала XX века … С. 94.
-
22. Авторы благодарят М.А. Мусаева, обратившего наше внимание на данный аргумент. О сочинении «Шарх асмаʼ Аллах ал-хусна» см.: Шихсаидов А.Р. Ал-Кудуки // Ислам на территории бывшей Российской империи : энцикл. слов. / сост. и отв. ред. С.М. Прозоров. Т. I. М., 2006. С. 223 ; Мусалова А. Мухаммад из Кудутля. Научное наследие // Историография и источниковедение Средневекового Востока : материалы междунар. науч. симп., посвящ. 90-летию действ. члена Нац. акад. наук Азербайджана, Героя Советского Союза Зии Муса оглы Буниятова (Баку, 7–8 мая, 2012 г.). Баку, 2012. С. 163.
-
23. Аджаматов Б. Чудеса. Сенсации. Факты. Махачкала, 1999. 80 с.
-
24. Мучное блюдо с начинкой, как правило, из творога.
-
25. Мусаев М.А., Шихалиев Ш.Ш. Чудотворство святых в дагестанском арабоязычном суфийском биографическом сочинении «Табакат ал-Хваджакан ан-накшбандийа ва садат машаих ал-Халидийа ал-Махмудийа» Шуайба ал-Багини // Pax Islamica. 2011. № 2 (7). С. 183–194.
-
26. Мусаев М.А., Шихалиев Ш.Ш. Чудесные деяния святых … С. 223.
-
27. Ал-Багини Шуʻайб б. Идрис. Указ. соч. С. 158.
-
28. Текст писался Шуʻайбом в начале XX в., а крепость на Гунибской горе, как известно, была построена после окончания Кавказской войны на Восточном театре военных действий. Т. е. мы имеем дело с дисхронологией.
-
29. М.А. Мусаев, изучив данный текст, установил, что повествование о взятии селения Чох войсками имама позаимствовано Шуʻайбом у Мухаммад-Тахира ал-Карахи. См.: Мусаев М.А. Материалы к биографии Мухаммада, сына Мусы ал-Кудуки (Часть первая) // Вестник Института истории, археологии и этнографии. 2014. № 3. С. 61–70.
-
30. Мусаев М.А., Алхасова Д.М. Ругуджинские легенды и предания о Мусалаве из Кудутля // Научное обозрение. Махачкала, 2008. № 42. С. 66–70.
-
31. Аджаматов Б. Указ. соч. С. 62.
-
32. Мусаев М.А., Алхасова Д.М. Указ. соч. С. 67.
-
33. Там же. С. 68.
-
34. Аджаматов Б. Указ. соч. С. 62–63.
-
35. Мусаев М.А. Материалы к биографии … С. 66.
-
36. Там же. С. 64.
-
37. Gardet L. Karama // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden, 1997. Vol. IV. P. 615–616. На англ. яз.
-
38. М.-Н. Османов и Э. Кулиев перевели данный аят соответственно: «Мы одного за другим низвергнем [в ад] так, что
-
- они и не заметят»; «Мы завлечем так, что они даже не узнают этого».
-
39. Ас-Са‘ди ‘Абд ал-Малик. Исламское вероучение: толкование акиды «ан-Насафия» : пер. с араб. Казань, 2007. 232 с. 40. Там же. С. 144–145.
-
41. Марджани Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-Насафи (ал-Хикма ал-балига) / предисл. и пер. с араб. Д. Шагавиева. Казань, 2008. 479 с.
-
42. Ас-Са‘ди ‘Абд ал-Малик. Указ. соч. С. 146.
-
43. Ан-Насафи Абу Муʻин. Тамхид ли-каваʻиди тавхид. Дар тибаʻат ал-мухаммадийа, 1986. 436 с. На араб. яз.: ابو معين
.النسفي، التمهيد لقواعد التوحيد، دار الطباعة المحمدية، 1986
Список литературы К вопросу о "чудесных деяниях" и изучении "тайных наук" в Дагестане в контексте рассмотрения жизни и творчества Мухаммада ал-Кудуки
- Мусаев М.А., Шихалиев Ш.Ш. Чудесные деяния святых в арабоязычных суфийских биографических сочинениях дагестанских шейхов начала XX века//Письменные памятники Востока. 2012. № 2 (17). С. 218-232.
- Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан/вступ. ст., коммент., примеч. и общ. ред. В.Г. Гаджиева. Махачкала, 1994. 159 с.
- Ад-Дургели Н. Услада умов в биографиях дагестанских ученых: Дагестанские ученые и их сочинения/пер. с араб., коммент., факс. изд., указ. и библиогр. подгот. А.Р. Шихсаидовым, М. Кемпером, А.К. Бустановым. М., 2012.
- Kayayev A. Teracim-i Ulema-yi Dagistan. Dagistan Bilginleri Biyografileri/hazirlayanlar: Dr. Hasan Orazayev, Dr. Tuba Içinsu Durmuç. Ankara, 2012. 160 s. На тур. яз.
- Мусаев М.А. Дагестанские арабографические биографические и историко-биографические сочинения второй половины XIX -начала XX века и место в них ученого-богослова XVII-XVIII веков (на примере Дамадана ал-Мухи)//Исламоведение. 2012. № 4. С. 88-96.
- Абдурахман из Газикумуха. Книга воспоминаний/пер. с араб. М.-С. Саидова; ред. пер., подгот. факс. изд., коммент., указ. А.Р. Шихсаидова, Х.А. Омарова. Махачкала, 1997. 868 с.
- Шихсаидов А.Р. Письменные памятники Дагестана (жанр биографий)//Письменные памятники Дагестана XVII-XIX вв. Махачкала, 1989. С. 5-14.
- Мусаев М.А. Дагестанские арабоязычные биографические и историко-биографические сочинения XIX -начала XX в. //Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. URL: www.science-education.ru/115-11933 (дата обращения: 10.10.2016)
- Нурмагомедов М.Г. Дагестанская литература на арабском языке (биографические сведения о Мухаммаде из Кудутля, Саиде из Аракани и Шабане из Обода). На араб. яз.//Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии Дагестанского НЦ РАН. 1992. Ф. 3. Оп. 1. Д. 553. 28 с
- Ал-Багини Шу‘айб б. Идрис. Табакат ал-Хваджакан ан-накшбандийа ва садат маша'их ал-Халидийа ал-Махмудийа. Дамаск, 2003. 550+80 с
- Dietrich A. Al-Buni//The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden, 2004. Vol. XII. Supplement. P. 156-157
- Шихсаидов А.Р. Ал-Кудуки//Ислам на территории бывшей Российской империи: энцикл. слов./сост. и отв. ред. С.М. Прозоров. Т. I. М., 2006. С. 223
- Мусалова А. Мухаммад из Кудутля. Научное наследие//Историография и источниковедение Средневекового Востока: материалы междунар. науч. симп., посвящ. 90-летию действ. члена Нац. акад. наук Азербайджана, Героя Советского Союза Зии Муса оглы Буниятова (Баку, 7-8 мая, 2012 г.). Баку, 2012. С. 163.
- Аджаматов Б. Чудеса. Сенсации. Факты. Махачкала, 1999. 80 с
- Мусаев М.А., Шихалиев Ш.Ш. Чудотворство святых в дагестанском арабоязычном суфийском биографическом сочинении «Табакат ал-Хваджакан ан-накшбандийа ва садат машаих ал-Халидийа ал-Махмудийа» Шуайба ал-Багини//Pax Islamica. 2011. № 2 (7). С. 183-194
- Мусаев М.А. Материалы к биографии Мухаммада, сына Мусы ал-Кудуки (Часть первая)//Вестник Института истории, археологии и этнографии. 2014. № 3. С. 61-70
- Мусаев М.А., Алхасова Д.М. Ругуджинские легенды и предания о Мусалаве из Кудутля//Научное обозрение. Махачкала, 2008. № 42. С. 66-70
- Gardet L. Karama//The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden, 1997. Vol. IV. P. 615-616
- Марджани Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-Насафи (ал-Хикма ал-балига)/предисл. и пер. с араб. Д. Шагавиева. Казань, 2008. 479 с