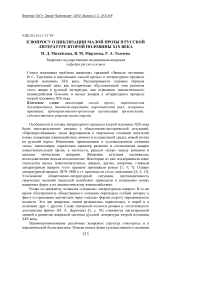К вопросу о циклизации малой прозы в русской литературе второй половины XIX века
Автор: Михайлова Наталья Дмитриевна, Мирзоева Валентина Михайловна, Ткачева Раиса Андреевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме жанровых традиций «Записок охотника» И. С. Тургенева в циклизации «малой прозы» в литературном процессе второй половины XIX века. Рассматривается главным образом народнический цикл как исторически обусловленный этап развития этого жанра в русской литературе, как отражение диалектического взаимодействия больших и малых жанров в литературном процессе второй половины XIX века.
Циклизация малой прозы; народническая беллетристика; писатели-народники; народнический цикл; жанровые традиции; пространственно-временная организация произведения; художественное решение темы народа
Короткий адрес: https://sciup.org/146121004
IDR: 146121004 | УДК: 821.161.1-32”18”
Текст научной статьи К вопросу о циклизации малой прозы в русской литературе второй половины XIX века
Особенности и логика литературного процесса второй половины ХIХ века были непосредственно связаны с общественно-исторической ситуацией. «Переворотившаяся» эпоха формировала в творческом сознании писателей новые концепции взаимодействия личности и социальной среды, новый взгляд на русский народ. Изменения, происшедшие в художественном сознании эпохи, закономерно определяли характер развития и соотношения жанров повествовательной прозы, в частности, решали «спор» между романом и малыми эпическими жанрами. Жанровая ситуация оценивалась исследователями весьма неоднозначно. Некоторые из них поддерживали идею господства малых повествовательных жанров, другие, напротив, главным литературным жанром этого времени признавали роман [1; 3; 7]. Однако литературный процесс 1870–1880-х гг. протекал не столь однозначно [4; 2; 13]. Усложнение общественно-литературной ситуации, противоречивость творческих исканий писателей неизбежно приводили к появлению новых жанровых форм, к их диалектическому взаимодействию.
Роман по-прежнему оставался «сильным» литературным жанром. В то же время обостренность общественного сознания порождала особый интерес к факту и стремление запечатлеть через «малые» формы остроту переживаемого момента. Эти две жанровые линии развивались параллельно, а порой и в полемике друг с другом. Сплав эпической полноты романа и «эстетического достоинства факта» (И. А. Дергачев) [3, с. 10] становится магистральной линией в развитии жанровой системы русской литературы второй половины ХIХ века.
Взаимопроникновение различных жанровых структур отмечалось и в народнической беллетристике. Поиски новых форм художественного освоения
«переворотившейся» эпохи неизбежно приводили писателей-народников к созданию широких эпических полотен - сборников и циклов. Очерк и рассказ, как жанры «быстрого реагирования», не позволяли народникам исследовать те глубинные нравственно-психологические сдвиги, которые происходили в жизни пореформенного крестьянства.
Писатели-народники не ограничивались интересом лишь к социальной стороне бытия русского мужика (хотя, разумеется, данный аспект в изображении народа доминирует у народников). Им важно было понять, как и вследствие чего рушится общинная психология крестьянина и формируется в его сознании новая «философия», порожденная коренными социальноэкономическими переменами в деревне. Развитие же пореформенной крестьянской психологии невозможно было запечатлеть в узких жанровых рамках рассказа и очерка. Столь сложную художественную задачу было трудно решить и в такой повествовательной форме, как сборник. Народнический сборник представлял собой необходимую жанровую форму как с точки зрения идейной, так и чисто художественной. Наиболее известны в литературном народничестве авторы сборников Н. И. Наумов («Сила солому ломит», «В тихом омуте», «В забытом краю») [11] и Ф. Д. Нефедов («На миру») [12]. Они сумели с документальной точностью воссоздать картины крестьянского быта, пореформенные типы мужиков. Сборники Нефедова и Наумова, кроме того, что изобиловали множеством фактов, конкретных жизненных наблюдений и содержали богатый этнографический материал, имели ещё и острую социальную направленность. Идеологизация народнических сборников обусловила их известное художественное несовершенство. Несмотря на это, они были необходимой жанровой формой и с литературной точки зрения, а именно - представляли собой переходную форму в движении народнической беллетристики к циклическому образованию.
Законы жанровой формы сборника не позволяли авторам подняться до глубинного и всестороннего исследования социально-психологических процессов в пореформенной деревне. Рассказы и очерки объединялись в сборники прежде всего на основе общности тематики и проблематики. Им недоставало внутреннего идейно-художественного единства и целостности. Принцип механического соединения отдельных частей сборника, мозаичность его построения сказывались в отсутствии внутреннего сюжетного движения. Главным «недостатком» сборников Нефедова и Наумова являлась невозможность передать в этой жанровой форме ощущение общего движения, «текучести», переменчивости жизни; увидеть российскую действительность в ее духовно-социальном развитии. Эту возможность беллетристам-народникам открывал цикл. Циклическая форма обладала той мобильностью, гибкостью внутренних связей, «многомерностью» изображения действительности, которых недоставало малым жанрам и сборнику и которые позволяли воссоздать противоречивую и неустойчивую ситуацию в пореформенной деревне.
Народнический цикл был исторически обусловленной ступенью в развитии этой жанровой формы русской литературы. Опираясь на художественную традицию предшественников, беллетристы-народники пытались «завязать новый литературный узел» [14, с. 151] - создать народнический цикл. Отмечалось, что он самым тесным образом связан с традициями циклов писателей-шестидесятников и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Между тем, в нем своеобразно преломились и традиции «Записок охотника» И. С. Тургенева. Отметим, что щедринской жанровой традиции были в большей степени привержены Гл. И. Успенский [15], Н. Е. Каронин [8]. Ориентация на тургеневский цикл наиболее ощутима - у А. И. Эртеля [16], отчасти - у Н. Н. Златовратского [5], и в меньшей степени - у Каронина и Гл. Успенского. Ориентация на произведение Тургенева свидетельствовала о его высоком идейно-эстетическом потенциале. Обращение к великой книге о народе становилось неизбежным, когда проблема народа возникала на новом историко-литературном витке. В историко-литературном процессе тургеневский цикл воспринимался как своеобразный жанровый эталон, на который вольно или невольно ориентировались писатели.
Формированию специфической поэтики народнического цикла способствовала жанровая «полемика» народников с Тургеневым. Степень воздействия тургеневского цикла на разных авторов внутри литературного народничества и их отношение к жанровой традиции тургеневского текста далеко не однозначны. В нем видны признаки притяжения и отталкивания от «Записок охотника».
Стремление народников к тургеневской непринужденности и естественности в подаче жизненного материала сказалось уже во внешнем оформлении циклов - в их названиях: записки («Записки Степняка» Эртеля [16]), очерки («Очерки крестьянской общины» Златовратского [5]), рассказы («Рассказы о парашкинцах», «Рассказы о пустяках» Каронина [8]), циклы Гл. Успенского оформлены в виде дневниковых записей («Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», «Из разговоров с приятелями» [15]).
Главная «точка схода» между «Записками охотника» и циклами народников состоит в их идейно-тематической общности: доминирующей и организующей очерки и рассказы в единое идейно-композиционное целое, является тема народа [10]. Совпадает и её общее гуманистическое направление - взгляд на русское крестьянство не как на «касту», не имеющую «ничего общего с остальным человечеством», а как на людей, таких же, «как и все» (Гл. Успенский) [15, с. 416]. Однако если в «Записках охотника» эта гуманистическая мысль постигалась читателем не сразу, а «вычитывалась», то в циклах народников она декларировалась открыто в авторских публицистических комментариях и отступлениях.
«Социологичность» мышления народников обусловила своеобразие жанрово-композиционного построения народнического цикла: четкую прорисовку тематических линий; идейно-заданную, целенаправленную сюжетную организацию. В программном очерке, как правило, содержится вопрос-завязка, разрешению которого подчинена вся логика построения цикла.
Рассказы и очерки «Записок охотника» и народнических циклов скреплялись друг с другом не только сквозной проблемой, но и фигурой рассказчика. Этот циклообразующий фактор имеет принципиальное значение в народнической прозе. Если в «Записках охотника» существовала дистанция между рассказчиком и героем-мужиком, то в циклах Златовратского, Гл. Успенского, Эртеля рассказчик стремится войти в крестьянскую среду, поскольку имеет совершенно конкретную цель – выяснить, чем сильна община и устоит ли она под натиском новых веяний. Поэтому он активно вторгается в судьбы героев. В народническом цикле происходит «диффузия» и даже совпадение зон рассказчика и персонажей. Кроме того, голос рассказчика в нем открыто тенденциозен. Он активно выражает авторскую концепцию в многочисленных публицистических отступлениях, которые можно рассматривать как своеобразный циклообразующий фактор.
Ориентация на «Записки охотника» создала в народническом цикле особый нравственно-философский подтекст, способствовала расширению диапазона художественных средств, в чем убеждает анализ циклообразующих факторов в произведениях Тургенева и народников (образ рассказчика, вариативное движение тем, публицистические отступления, пространственновременной континуум и др.).
Пространственно-временной континуум играет важную роль в формировании внутреннего единства цикла и вовсе не адекватен лишь месту действия и положению персонажей в предметном мире произведения. Он представляет собой «модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений» (Ю. М. Лотман) [9, с. 252–253]. Своеобразие тургеневской модели мира, эстетическое совершенство «языка пространственных представлений» [9, с. 253] (отдельных элементов его – пейзажа, образа дороги, особого зрительного ракурса – точки зрения сверху и т. д.) – всё это способствовало созданию в «Записках охотника» ощущения России как единого целого. Перспектива ее поступательного духовноисторического развития является концептуальным моментом тургеневского цикла.
В отличие от Тургенева, с его глобально-историческим взглядом на крестьянскую Россию, народников занимало решение совершенно конкретных задач, а именно – «убьет ли яд новых веяний общину» [5, с. 359]. В силу этого народнические циклы не могли претендовать на роль эпохальных произведений, ибо были конкретно-исторически прикреплены к определенному времени. Мощного заряда оптимизма, присущего тургеневской книге, в них уже не было. В результате духовное, внутреннее пространство в народническом цикле лишалось мощного импульса, который бы «разомкнул» его и устремил внутренне движение вовне, за пределы конкретной исторической ситуации. Ограничив себя рамками социологического исследования, народники тем самым в большинстве случаев сузили, обеднили внутреннее, духовное пространство своих циклов. Отсутствие функциональноэстетического «слоя» пейзажей (отдельные зарисовки не могли передать изменчивости, движения жизни) останавливало и так не слишком динамичное внутреннее «время – пространство» народнического цикла. И все же, несмотря на специфичность пространственно-временных отношений в народнических циклах, в них очевидна определенная ориентация на тургеневскую традицию. Так, ощущение России, ее широты, могущества усиливается особым зрительным ракурсом – точкой зрения сверху, который придает художественному пространству циклов объемность, многомерность. В
«Записках охотника» это многомерное пространство сохраняется на протяжении всего цикла, а в народнической прозе в процессе движения к финалу оно сужается.
Анализ языка пространственных представлений тургеневского и народнического циклов позволил выявить общность его отдельных элементов, хотя полного их совпадения не могло быть в силу особенностей идейнохудожественного видения писателей. Именно форма цикла давала писателям-народникам возможность панорамного охвата пореформенной действительности и вместе с тем более глубокого проникновения в суть противоречивых социальных процессов, всколыхнувших российскую деревню.