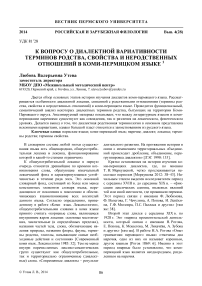К вопросу о диалектной вариативности терминов родства, свойства и неродственных отношений в коми-пермяцком языке
Автор: Утева Любовь Валерьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
Дается обзор основных этапов истории изучения диалектов коми-пермяцкого языка. Рассматриваются особенности диалектной лексики, связанной с родственными отношениями (термины родства, свойства и неродственных отношений) в коми-пермяцком языке. Проводится функциональный, семантический анализ некоторых диалектных терминов родства, бытующих на территории Коми-Пермяцкого округа. Анализируемый материал показывает, что между литературным языком и коми-пермяцкими наречиями существуют как совпадения, так и различия на лексическом, фонетическом уровнях. Делается вывод о том, что диалектная родственная терминология в основном представлена исконными вариантами, однако большой пласт относится к заимствованиям из русского языка.
Пермские языки, коми-пермяцкий язык, наречие, диалект, лексика, термины родства, термины свойства
Короткий адрес: https://sciup.org/14729355
IDR: 14729355 | УДК: 81''28
Текст научной статьи К вопросу о диалектной вариативности терминов родства, свойства и неродственных отношений в коми-пермяцком языке
В словарном составе любой эпохи существования языка есть общенародная, общеупотребительная лексика и лексика, функционирование которой в какой-то степени ограничено.
К общеупотребительной лексике в первую очередь относятся древнейшие по времени возникновения слова, образующие изначальный лексический фонд и характеризующиеся устойчивостью в течение ряда эпох. Это основной словарный фонд, состоящий из более или менее константных элементов словаря языка, передающихся от поколения к поколению и обеспечивающих взаимопонимание всех носителей данного языка. Согласно определению, приведенному в работе «Коми язык. Лексикология», общеупотребительными словами в коми языке принято считать «корневые слова, являющиеся внутренним ядром лексики: основные местоимения, числительные (в определённых пределах), названия частей тела, слова, обозначающие явления природы, названия флоры, фауны, термины родства, глаголы, называющие самые необходимые действия и состояния» [Современный коми язык. Лексикология 1985: 32]. Тем не менее внутри перечисленных лексико-семантических групп существуют как общеупотребительные, так и территориально ограниченные (диалектные) слова. «Современные диалекты – результат длительного развития. На протяжении истории в связи с изменением территориальных объединений происходит дробление, объединение, перегруппировка диалектов» [ЛЭС 1990: 133].
Кратко остановимся на истории изучения коми-пермяцких диалектов, где, по мнению Т. Н. Меркушевой, четко прослеживаются несколько периодов [Меркушева 2012: 38–43]. Начальным этапом выделен исследователем период с середины XVIII в. до середины XIX в. – «фиксация лексических единиц, языковых явлений той или иной местности, где проживали пермяки. Этот период связан с именами Ф. Любимова, Ф. Волегова, Г. Чечулина, А. Попова, И. Лепёхина, Г.Ф. Мюллера, П.С. Палласа и других» [там же: 38].
Второй этап длился с середины XIX в. по 1928 г. Это «период просветительской деятельности, который связан с именами Н. Рогова, Е. Попова, К. Мошегова, М. Лихачёва, А. Зубова и других» [там же]. В работе Н.А. Рогова «Опыт грамматики пермяцкого языка» отмечены два наречия, одно из них он называет коренным, другое южным [Рогов 1869: 6]. Именно в этот период впервые было установлено, что коми-пермяцкий язык является неоднородным, разделенным на наречия.
Целенаправленное, систематическое изучение коми-пермяцких диалектов началось в 30-е гг. прошлого века. В.И. Лыткин в своей работе о коми языке выделяет 14 диалектов, в числе которых три коми-пермяцких [Лыткин 1930: 31–40]. В 1931 г. была опубликована статья Г. А. Нечаева «Отношение окружного коми литературного языка к северным диалектам Коми округа», в которой дается краткая характеристика кочёв-ского диалекта: указаны некоторые его фонетические и морфологические особенности, а также приведен список диалектных слов [Нечаев 1931: 14–32]. Этот период (30–50-е гг. XX в.) Т. Н. Меркушевой назван третьим этапом в истории изучения коми-пермяцких диалектов [Меркушева 2012: 39].
Четвёртый этап (50–90-е гг. XX в.) – период, когда шла целенаправленная работа по сбору диалектного материала, унифицированному описанию диалектов (А. С. Кривощёкова-Гантман, Р. М. Баталова, Е. В. Ботева, З.К. Тудвасева, В. И. Лыткин, П. С. Кузнецов и др.) [там же: 39]. В этот период устанавливается единый подход к классификации диалектов коми-пермяцкого языка, который на сегодняшний день принят в фин-но-угристике: на территории Коми-Пермяцкого округа выделяются два крупных наречия – северное и южное [там же: 41] .
В начале 2000-х гг. были защищены три диссертационные работы на основе коми-пермяцкого диалектного материала [Пономарёва 2002; Федосеева 2002; Меркушева 2003]. Период с 2000 г. по настоящее время в истории изучения коми-пермяцких диалектов Т. Н. Меркушевой условно назван пятым этапом. На этом этапе внесены изменения в ранее принятую классификацию: Л. Г. Пономарёва и Е. Н. Федосеева предложили объединить два северных диалекта (мы-совский и верх-лупьинский) в один диалект – мысовско-лупьинский [Пономарёва 2002: 8; Федосеева 2002: 431].
Таким образом, можно констатировать следующий факт: коми-пермяцкие диалекты достаточно хорошо исследованы. Тем не менее остаются пробелы в изучении стилистики, синтаксиса, словарного состава коми-пермяцкого языка.
Итак, на территории Коми-Пермяцкого округа традиционно выделяют два крупных наречия – северное и южное. Южное наречие коми-пермяцкого языка распространено на территории Кудымкарского и Юсьвинского районов Коми-Пермяцкого округа, северное наречие относится к трем районам: Кочёвский, Косинский и Гайн-ский. Вплоть до недавнего времени в северном наречии выделяли четыре диалекта: косинско-камский, кочёвский, мысовский и верх- лупьинский. Однако в современных исследованиях последние два, как мы говорили выше, предложено объединить в один диалект, называемый мысовско-лупьинским. Третье наречие – верхнекамское, состоящее из одного диалекта, – находится за пределами округа, в Кировской области.
На диалектное членение изучаемого языка оказывают влияние социальные факторы: внутренние миграции и уменьшение численности коми-пермяцкого народа. Сегодня многие малые деревни перестали существовать, их жители перебрались в более крупные населенные пункты, а это означает, что они «унесли» с собой целые говоры. Как это повлияет на диалектную картину коми-пермяцкого языка в будущем, трудно сказать, однако хочется надеяться на сохранение и бережное отношение коми-пермяков к родному языку.
Цель данной статьи – осветить вопрос о диалектной вариативности некоторых терминов родства, свойства и неродственных отношений в коми-пермяцком языке.
На функционирование терминов родства в современном коми-пермяцком языке, по нашему мнению, влияет несколько факторов, основными из которых являются семейные традиции, условия проживания (сельская либо городская местность), возраст. Сегодня многие семейные традиции перестали быть обязательными, что явилось одной из причин ухода в прошлое лексики родства. В среде молодого поколения редко можно услышать такие обычные в недалёком прошлом слова, как ичипиян ‘деверь’, ань, мат-шка ‘свекровь’. Чаще всего вместо приведенных единиц встречаются описательные – вон жöниклöн (в которых второй компонент построен на основе заимствованного из русского языка слова) ‘брат мужа’, мамыс жöниклöн ‘мать мужа’ либо исконные слова заменяются русскими терминами родства. Лишь в некоторых письменных памятниках, в речи пожилых людей из глубинки изредка можно обнаружить те термины, которые выступают в качестве исконных. Далее остановимся на нескольких диалектных терминах, относящихся к лексике родства в коми-пермяцком языке.
Айка, сев. ‘муж’ – редко встречающаяся в северном наречии лексема, но она активно внедряется в художественные тексты, что приближает её к литературной норме. Например, … быдмин, айка сайö йöз пытшкö мунiн… ‘… выросла ты, замуж в народ пошла…’ [Зубов, Лихачёв 1989: 72]. В результате присоединения суффикса -ка к термину кровного родства ай ‘отец’ образуется термин свойства – айка в значении ‘муж’. При этом в слове сохраняется только семантика мужской линии. В южных диалектах данная семантика передаётся вариантом жöник (< рус. жених). Заимствованная из русского языка эта лексема получила некоторые фонетические и семантические изменения при функционировании в коми-пермяцком языке. Если в русском языке и в северных диалектах коми-пермяцкого языка термин жених обозначает ‘мужчину, вступающего в брак’, например, жöникöлö босьтім костюм ‘жениху купили костюм’, то в южных диалектах коми-пермяцкого языка семантика этого слова ‘мужчина, уже вступивший в брак’, например, жöникö гортын абу ‘моего мужа дома нет’.
Обратимся к близкородственному языку – коми-зырянскому, в диалектах которого довольно часто можно встретить термин айка , но в несколько другом значении – ‘свёкор, самец’ (семантика мужского пола сохраняется). Семантика этого слова в коми языках, таким образом, различна: ‘муж’ и ‘свёкор’. В коми-пермяцком (сев. диал.) сохраняется лишь значение мужского пола, а в коми-зырянском языке лексема айка ближе по семантике к непроизводной основе ай ‘отец’ (ср. к.-з. айка ‘отец мужа’). Существует и такое ареальное распределение терминологии родства, когда в южном наречии функционирует исконное слово, а в северном – заимствованное. Например, сев. батшко ‘свёкор’, юж. йöзай ; сев. матшка ‘свекровь’, юж. ань . Биз да биз... Уна-жык керкуын инькаэс бизгöны, а батшко кывзö моньсö да иньсö и пеллес сайö тэчö да думайтö, кöр бура вежöртö, что öтлаын оласö-оласö, и моньыс адззас мужик, сэк мый керны? [Федосеев 1991: 132]. ‘Ноют и ноют… Больше в доме женщины недовольны, а свёкор слушает невестку и жену и, задумываясь, хорошо понимает, что вместе поживут-поживут, и невестка найдёт мужика, тогда что делать?’
К следующей группе мы относим пару лексических единиц: ю. вежань и сев. кока ‘крестная’. Слово кока в приведенном значении довольно часто встречается в соседних с коми-пермяцкими русских северных говорах Прикамья и может оцениваться как заимствованное. Южный вариант принят в литературном коми-пермяцком языке. Синонимичные пары ю. ань и сев. мат-шка (< рус. матушка) ‘свекровь’, ю. йöзай и сев. батшко (< рус. батюшко) являются самыми употребительными в коми-пермяцком языке. Корни северных терминов заимствованы из русского языка – бат- ‘отец’, мат- ‘ мать ’. В этом случае произошло семантическое и фонетическое изменение русских слов. Можно предположить, что иноязычные слова со временем могут вытеснить коми-пермяцкую лексику.
В «Коми-пермяцко-русском словаре» [КПРС 1985] мы обнаруживаем достаточное количество коми-пермяцких терминов (68), обозначающих родственные отношения. По существу, данные единицы уже были зафиксированы Н. А. Роговым, и это понятно, так как при составлении словаря авторы «широко использовали материалы опубликованных словарей, периодической печати…» [там же: 6]. Тем не менее среди интересующих нас слов в словаре отмечен термин вöзабыдтöм в значении ‘любимая, единственная дочь’ [там же: 82]. В современном южном наречии коми-пермяцкого языка данная лексема функционирует, но в несколько другом значении – ‘единственный ребёнок в семье’. Заметим, что в словаре Н. А. Рогова, где описывается лексика современного южного диалекта, данного термина не обнаружено, но приведённый факт не доказывает, что в XIX в. анализируемая лексема не бытовала среди коми-пермяков.
Слово вöзабыдтöм состоит из двух основ: компонент -быдтöм легко поддаётся анализу и восприятию, поскольку это слово общеупотребительное, общеизвестное – семантика быдтöм действительно связана со значением воспитания (сравним: умöля быдтöм ‘плохо воспитанный’). Одним словом, данный компонент вполне уместен в составе анализируемого слова. Первую часть вöза-, на наш взгляд, можно сравнить с удмуртским послелогом вöзы ‘рядом, возле себя, около’ [Борисов 1991: 62]. Сегодня лексема вöзабыдтöм встречается в нескольких диалектах южного наречия коми-пермяцкого языка, при этом иногда семантика анализируемого слова передаётся описательным способом: бура быдтöм кага ‘хорошо воспитанный ребёнок’, что свидетельствует, скорее всего, о дальнейшем сужении семантики употребления этого слова.
В северных диалектах коми-пермяцкого языка эпизодически встречается термин соч , который наиболее типичен для коми-зырянского языка с семантикой ‘сестра’. В коми-пермяцком языке лексема соч имеет значение ‘двоюродная (редко троюродная) сестра’ ( Мэдбы отсавны гарйыны остатки картошка, мэ дынö Кудымкарсяань волліс ( лит. вовліс) сочö. ‘Чтобы помочь выкопать оставшуюся картошку, ко мне из Кудымкара приезжала троюродная сестра’ (д. Пуксиб Косинского района). Узьны пырис соч ордö, кöда посадас важын ни олiс. ) ‘Ночевать зашёл к двоюродной сестре, которая давно уже проживала в селе’ [Федосеев 1991: 136].
Данная лексема встречается и в других производных словах коми-зырянского языка: воча соч ‘двоюродная сестра’ (ср. к.-перм. оча сой ‘двоюродная сестра’). В удмуртском языке для передачи данного значения существуют два термина с фонетическими вариантами: сузэр, сурзы ‘младшая сестра’, апай, апа ‘старшая сестра’, очевидно, заимствованные из татарского языка [Борисов 1991: 16, 266].
По мнению Тойвонена, первоначальным могло быть значение ‘старшая сестра’. Коллиндер даёт финское слово под вопросом, исходя из того, что sisko могло получиться от sisar ‘сестра’ под влиянием формы veikko ‘брат’ (Koll.) – Об-щеперм.*soč׳ ‹ доперм. *ѕ8č3׳-(Zur Gesch. 270; Ист. Вок; 97) [КЭСКЯ 1999: 262].
Лексема вок зафиксирована в Коми-пермяцко-русском словаре с пометой «северное» в значениях 1) старший брат ( по отношению к младшим ); 2) двоюродный брат [КПРС 1985: 78]. Мый ваяс Андрейыс, вердö воксö и бабсö, кöр и ачыс сёйö жö, а кöр оз и пешлы йöз быдтöмсö … ‘Что принесёт Андрей, кормит двоюродного брата и бабушку, когда и сам то же кушает, а когда и вовсе не попробует …’ [Федосеев 1991: 203]. Любопытно функционирование приведённого термина в коми-зырянском языке (в других финно-угорских языках анализируемые лексемы не встречаются), там вок имеет значение ‘брат’. На территории южного наречия коми-пермяцкого языка такой формы не наблюдается. По своему происхождению данное слово общепермского периода (*vok). Уотила под вопросом сопоставляет его с финским veiko (Suri. Ghr) [КЭСКЯ 1999: 61]. Таким образом, можем предположить, что северные диалекты коми-пермяцкого языка, в частности мысовско-лупьинский, сохранили исконную семантику данного термина ( Талöн вокыс воллiс ме дынö. ‘У этого брат приходил ко мне’ [Голева, Подюков 2011: 153]). Скорее всего, это связано с географией говоров.
Единица вежайгöтыр ‘жена крёстного’ в настоящее время является диалектным словом, функционирующим в речи северных коми-пермяков. Лексема состоит из трех компонентов, первый из которых веж- общеперм. *vža ‘священный, святой, освященный’, ‘зеленый, желтый’ > ‘горький’, из которого развилось vвž (см. веж II) ‘зависть, страстное желание, ненависть, злоба, гнев’; первоначальное значение *v6 žа ‘греховный, вызывающий гнев, запретный, недозволенный’ > ‘священный, святой’ (FUF, XXXIII, 164) [КЭСКЯ 1999: 50]. Второй компонент -ай- несет общеизвестную семантику ‘отец’ – общеперм. *aj8 ‘родитель’, ‘самец’ || ф. äíjä ‘старик, дед’ | саам. ag¹gja тж. = доперм. *aj 7 -(Zur. Gesch., 173, 265) [там же: 31]. Третья часть диалектного слова -гöтыр ‘жена, супруга’; gx оtөr кя. Происхождение неясное. Может быть, имеет какое-то отношение к германским словам, ср. нем. Gatte ‘супруг’ – древнескандинавское заимствование (через прибалтийско-финские языки)? [КЭСКЯ 1999: 81]. Сегодня как самостоятельная лексема слово гöтыр ‘жена, супруга’ редко встречается в речи северных коми-пермяков. В современном коми-пермяцком языке вместо этого слова активно употребляется многозначная лексема инь(-ка) ‘жена, женщина’. Тем не менее общеизвестными являются производные данного слова, например, гöтыра ‘женатый’, гöтрасьны ‘жениться’ и др. Очевидно, как предполагает исследователь А. С. Лобанова, «когда-то действительно существовала лексема гöтыр со значением ‘жена’, которая была зафиксирована еще Н. А. Роговым в XIX в.» [Лобанова 2008: 65–66].
Таким образом, терминология родства и свойства в диалектах коми-пермяцкого языка представлена единицами разного происхождения: встречаются как исконные, так и заимствованные из русского языка термины. Ареальное распределение диалектных коми-пермяцких терминов данной группы, вероятно, произошло в результате длительного относительно обособленного проживания различных групп коми-пермяков. Функционирование лексики, связанной с родственными отношениями, сегодня определяется возрастными особенностями, а также условиями проживания.
ON THE QUESTION OF DIALECT VARIABILITY OF KINSHIP TERMS, AFFINITY TERMS AND TERMS OF NON-KIN RELATIONS
IN THE KOMI-PERMYAK LANGUAGE
Lyubov V. Uteva
Deputy Director
Municipal educational institution of continuing professional education “Interschool methodical center”
Список литературы К вопросу о диалектной вариативности терминов родства, свойства и неродственных отношений в коми-пермяцком языке
- Борисов Т. К. Удмурт кыллюкам. Ижевск, 1991. 384 с
- Голева Т. Г. и др. Лупьинцы: история, культура, язык. Этнолингвистический сборник/Т. Г. Голева, И. А. Подюков, Л. Г. Пономарёва, А. В. Черных//Труды Института языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа. Пермь: ИД Типография купца Тарасова, 2011. Вып. VIII. 244 с
- Зубов А. Н., Лихачёв М. П. Бöрйöм произведеннёэз. Кудымкар, 1989. 440 с
- КПРС -Коми-пермяцко-русский словарь/Р. М. Баталова, А. С. Кривощекова-Гантман. М.: Рус. яз., 1985. 621 с
- КЭСКЯ -Краткий этимологический словарь коми языка/В. И. Лыткин, Г. С. Гуляев. М., 1970. 386 с
- ЛЭС -Лингвистический энциклопедический словарь/гл. ред. В. Н. Ярцева; Ин-т языкознания АН СССР. М.: Сов. Энциклопедия, 1990. 685 с
- Лобанова А. С. Коми-пермяцкий этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. Пермь: Изд-во «ОТ и ДО», 2008. 188 с
- Лыткин В. И. Краткий обзор диалектов коми языка//Записки общества изучения Коми края. Сыктывкар, 1930. Вып. 5. С. 31-40
- Меркушева Т. Н. История изучения коми-пермяцких диалектов//Пермистика XIV: Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками (Междунар. симпозиум, 18-19 мая 2012 г., г. Кудымкар): сб. науч. ст. Кудымкар, 2012. С. 38-44
- Меркушева Т. Н. Лексика флоры и фауны южного наречия коми-пермяцкого языка: дисс. … канд. филол. наук. Сыктывкар, 2003. 230 с
- Нечаев Г. А. Отношение окружного коми литературного языка к северным диалектам Коми округа//Сб. комиссии по собиранию словаря и изучению диалектов коми языка. М., 1931. Вып. II. С. 14-32
- Пономарёва Л. Г. Фонетика и морфология мысовско-лупьинского диалекта коми-пермяцкого языка: дисс. … канд. филол. наук. Ижевск, 2002. 207 с
- Рогов Н. А. Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь. СПб., 1869. 416 с
- Современный коми язык. Лексикология/ред. А. И. Туркин; Коми филиал АН СССР, Институт языка, литературы и истории. М.: Наука, 1985. 208 с
- Федосеев С. А. Кусöм биэз. Кудымкар, 1991. 304 с
- Федосеева Е. Н. Лексика северного наречия коми-пермяцкого языка: дисс. … канд. филол. наук. Сыктывкар, 2002. 280 с