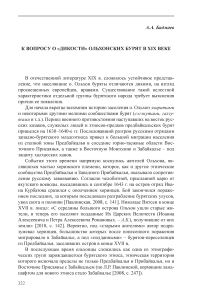К вопросу о «дикости» ольхонских бурят в XIX веке
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521879
IDR: 14521879
Текст статьи К вопросу о «дикости» ольхонских бурят в XIX веке
В последующее время ольхонцы сложились как одна из этнографических групп зарождавшегося бурятского этноса, этническая территория которого включала пределы не только Предбайкалья и Прибайкалья, но и Восточное Присаянье с Забайкальем (по Л.Р Павлинской, кормящим ландшафтом для нового этноса стало Забайкалье [2008, с. 247]).
Остров и прилегающее к нему западное побережье оз. Байкал в основном отличают бедная песчано-каменистая почва, выпадение за год сравнительно небольшого количества осадков и широкая роза ветров, нередко довольно сильных. Степи о. Ольхон и Приольхонья (Тажеранская степь), по мнению исследователей [Иметхенов, 1997], являются продолжением забайкальских сухих степей и северным форпостом центральноазиатских степей, поэтому пригодны для отгонного скотоводства. В их почвенном составе преобладают каштановые почвы, в основном принадлежащие мятликовым степям. Приморский хребет, защищающий Приольхонье с северо-запада, богат таежным зверем и птицей.
Приспосабливаясь к природно-географическим условиям о. Ольхон и Приольхонья, буряты-переселенцы были вынуждены изменить первоначальную форму хозяйства. В Предбайкалье доминировала модель экономики, предполагавшая ведение полуоседлого скотоводства в сочетании с орошаемыми земледелием и луговодством (у приангарских и части верхо-ленских бурят), а также охотой (у нижнеудинских и остальной части вер-холенских бурят). Она трансформировалась в экономику, где скотоводство существовало не только в полуоседлой, но и в полукочевой форме (характерно для состоятельных людей, владевших большими стадами домашнего скота). Особое значение приобрели рыболовство и охота на морского зверя (байкальскую нерпу).
В XIX в. хозяйство ольхонских бурят получило товарную направленность. В Иркутской губернии лучшей считалась грубая шерсть ольхонс-ких овец, поставлявшаяся в больших объемах на казенную Тельминскую суконную фабрику. Добываемая в оз. Байкал рыба (прежде всего омуль) в засоленном и мороженом виде продавалась в Иркутске и других местах Предбайкалья. Баранина и говядина реализовывались ольхонцами на рынках Иркутской губернии. Конечно, это лишь основные источники дохода ольхонских бурят, но существовали и другие.
Некоторое влияние на трансформацию хозяйства имела политика се-дентаризации, проводимая губернской администрацией. Ее результатом стало возникновение в составе ольхонских бурят небольшой прослойки оседлых бурят, занятых земледелием и огородничеством.
Однако вернемся к вопросу о т.н. «дикости» ольхонских бурят, подчеркиваемой в сочинениях путешественников, ученых и миссионеров XIX в. Как выяснилось, приписываемое бурятам свойство включало различные качества человеческой натуры, зачастую обусловленные особенностями культуры. Так, известный лингвист и профессор Казанского университета Г. Ковалевский писал: «Часть ольхонских жителей совершенно дикая, не терпит иностранцев, и любопытных посетителей встречает ругательствами» [1829, с. 177–178]. В отличие от большинства бурят, которых, несмотря на разброс мнений от уничижительного до хвалебного, современники считали гостеприимным и смирным народом, ольхонцы выбивались из сложившихся стереотипов. Н.С. Щукин отмечал: «Здешние буряты необыкновенно дики; между ними найдется много таких, которые не бывали на матерой земле, не видали Русских» [1852, с. 45–46]. Следовательно, причину отчужденности и пресловутой «дикости» можно увидеть в природной изоляции, определяемой островным положением ольхонских бурят.
Называя ольхонцев людьми отважными, православные миссионеры осуждали их за дикость, проявлявшуюся в распространенной практике кражи невест и жен у кударинских бурят [Мелетий, б.г.]. Умыкание невест, скорее всего, связано с возникшей демографической диспропорцией: число лиц мужского пола у ольхонских бурят долгое время превышало количество женщин.Так, в 1844 г. соотношение было следующим: 2 830 мужчин и 2 493 женщины (НА РБ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 62. Л. 11 об.). Лишь к концу XIX столетия цифры стали примерно равными: в 1884 г. в Ольхонском ведомстве насчитывалось 2 769 мужчин и 2 725 женщин (НА РБ. Ф. 12, Оп. 1. Д. 523. Л. 140 об.). Интересно, что во второй и третьей трети XIX в. в структуре населения кударинских бурят наблюдалось некоторое численное превосходство женщин над мужчинами. Не имея, по причине бедности, средств на покрытие калыма, часть молодых ольхонцев совершала кражи невест, нередко с согласия их родителей (таких же малоимущих, как и родители жениха). Близость между кударинскими и ольхонскими бурятами проявлялась в принадлежности, за небольшим исключением, к одним и тем же родовым подразделениям. Это позволяло части ольхонских бурят располагать свои летники на землях Кударинского ведомства.
Вероятно, на бытование представлений об ольхонцах как грубых и диких людях повлияло и нежелание большинства из них принять Святое крещение от православных миссионеров, т.к. они традиционно исповедовали шаманизм. Тот факт, что о. Ольхон, согласно представлениям бурят, рассматривался как некий духовный центр, место обитания могущественных «Тринадцати хозяев», вполне мог поддерживать шаманскую веру.
Г. Ковалевский отметил еще одну особенность ольхонских бурят, на этот раз связанную с питанием: «.. .однакож диких зверей здесь уже встречается очень мало, и Бурят без разбору употребляет их в пищу. Для него волчье мясо столь же вкусно, как и баранье» [1829, с. 178]. Очевидно, причина такого пищевого пристрастия коренились не только в исчезновении в фауне Ольхона и Приольхонья традиционных объектов мясной охоты. В целом сложные природно-экологические условия Ольхона побуждали для получения необходимых организму белков и жиров использовать и мясо других животных, не потребляемое большинством бурят. В засушливые годы (например, в конце 1830– 1840-е гг.) экономика местных бурят понесла тяжелый урон. Потеря скота от бескормицы имела следствием как структурное изменение питания, так и вынужденное потребление некачественных продуктов. Для авторов XIX в. было диким то, что ольхонские буряты едят мясо павших животных и птиц, но связано это было с естественными причинами.
Подводя итоги, можно утверждать, что «дикость» ольхонских бурят определялась разными обстоятельствами их жизни. Первостепенное значение для появления негативных черт в их культуре имел географический фактор: островная изолированность от остального мира.