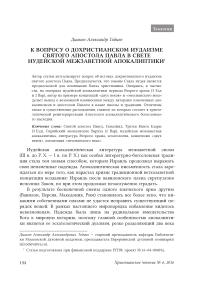К вопросу о дохристианском иудаизме святого апостола Павла в свете иудейской межзаветной апокалиптики
Автор: Тодиев Александр Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 6 (71), 2016 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи актуализирует вопрос об истоках дохристианского иудаизма святого апостола Павла. Предполагается, что знание Савла иудея является предпосылкой для понимания Павла христианина. Опираясь, в частно- сти, на материал иудейской апокалиптики периода Второго храма (3 Езд и 2 Вар), автор на примере концепций «двух веков» и «мессианского века» делает вывод о возможной взаимосвязи между авторами означенных апо- калипсисов и апостолом Павлом в плане школы и традиции. Отмечены также и существенные расхождения, главное из которых состоит в христо- логической реинтерпретации Апостолом апокалиптического богословско- го наследия.
Святой апостол павел, гамалиил, третья книга ездры (3 езд), сирийский апокалипсис варуха (2 вар), иудейская межзаветная апокалиптика, литература второго храма, эсхатология, концепция "двух веков", концепция "мессианского века"
Короткий адрес: https://sciup.org/140190236
IDR: 140190236
Текст научной статьи К вопросу о дохристианском иудаизме святого апостола Павла в свете иудейской межзаветной апокалиптики
(мироздания) — нынешний и будущий. Данное мировоззрение ясно описано в апокрифической Второй Книге Варуха (далее — 2 Вар) и в неканонической Третьей Книге Ездры (далее — 3 Езд): «Бог не сотворил не один век, а два» (3 Езд 7:50; см. также: 3 Езд 4:26–27; 6:7–10; 7:12–13, 29–31, 113; 8:1, 46; 2 Вар 14:13; 15:8; 83:8). Нынешний век ( olam hazze ) есть время владычества богоборческих сил, время обнаружения и развития зла и греха; по исполнении времен на смену его явится будущий век ( olam habba ), в котором будут господствовать правда, мир и радость. Эти два века антагонистичны по отношению друг к другу. Таким образом, апокалиптика периода Второго Храма — это историософия в ее простейшей форме.
Допуская четкое различие между двумя веками, иудейские апокалиптические литературные памятники, однако, не дают точного ответа на вопрос: когда наступят дни Мессии, в течение настоящего или будущего века? Тем не менее, в периоде Второго храма можно усмотреть следующую закономерность: древнейшее мнение (III–I вв. до Р. Х.) отождествляло мессианское царство с будущим веком, который мыслился финальной эпохой мировой истории; это воззрение преимущественно представлено в Книге пророка Даниила, «Книге Стражей» (1 Енох 6–36), «Притчах Еноха» (1 Енох 37–71) и в «Книге видений» (1 Енох 83–90). Очевидно, последователи данной концепции не интересовались тем, что могло лежать за пределами мессианского века, ибо он, как таковой, уже представлял собой кульминационную реализацию их национальных религиозных и политических идейных стремлений. На данном этапе это идеализированное царство Израиля было всецело синонимично понятию «будущий век» и мыслилось в рамках земного порядка.
Римляне сломили надежду на победное восстановление древнего государственного порядка естественным путем. Римская оккупация только подтверждала невозможность широкомасштабного обновления иудейского общества. Тогда осуществление этих надежд целиком перешло в сферу религиозных представлений, и идеал прошлого пришлось перенести в отдаленное будущее. Иудеи стали ожидать после дней Мессии высшего, небесного блаженства и полного обновления мира. В напряженном ожидании нового века, которым жила апокалиптика периода Второго Храма, Мессия играл роль живого моста, соединяющего оба века и переводящего за собою мир из старого века в новый.
Наличие мессианского века или его эквивалента является характерной чертой для заметной части иудейской апокалиптической письменности периода Второго Храма. Несмотря на то, что понятия olam hazze и olam habba остаются базовыми для апокалиптического мировосприятия, представление о мессианском веке как разрыве с настоящим веком и в какой-то степени инициировании будущего века наводит на мысль, что для существенной части иудейской апокалиптики представляется релевантной именно тройная схема (настоящий век / мессианский век / будущий век).
Непосредственно важным для предмета настоящей статьи является тот факт, что четкое учение о вр е менном мессианском веке мы находим лишь в двух апокалипсисах, написанных на рубеже I столетия по Р. Х.: 3 Езд и 2 Вар, уже после такого знакового события, как разрушение Иерусалима.
В двух отмеченных апокалипсисах и в некоторых раввинистических писаниях, хотя нет учения о двух пришествиях Мессии, тем не менее, подобный сценарий достигается путем разграничения пришествия Мессии и всеобщего воскресения мертвых. Между двумя событиями поставляется промежуточный период мессианского века. Данная схема событий соответствует тому, что Г. Шёпс называет «пост-мессианским положением вещей»2. Думается, она была знакома апостолу Павлу. Вероятно, именно так он мыслил эпоху, в которой сам жил, и которая началась для Церкви Христовой. Вера Апостола в то, что, хотя в лице Иисуса Назарянина Мессия уже пришел, это пришествие не совпадает с «концом дней», показывает, что апостол Павел был богословом, мировоззрение которого обуславливалось концепцией «двух веков», и что он видел разницу между промежуточным периодом мессианского века и olam habba .
Иудейская межзаветная апокалиптика не предполагала смерть, воскресение, вознесение и возвращение Мессии3. Апостолом Павлом межзаветная эсхатологическая схема была христологически переосмыслена. В частности, в пост-мессианский период необходимо было учитывать и событие Второго Пришествия Христа Спасителя, отождествив его с общим воскресением мертвых. Между двумя пришествиями поставлялся мессианский век, который становится переходным звеном от olam hazze к olam habba. В этот период, согласно 3-й книге Ездры, Мессия должен пребывать с народом Божиим на земле до наступления Царства Божия: «Ибо откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с Ним, и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет. А после этих лет умрет Сын Мой Христос и все люди, имеющие дыхание. И обратится век в древнее молчание на семь дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется никого. После же семи дней восстанет век усыпленный, и умрет поврежденный. И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилища отдадут вверенные им души. Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение» (3 Езд 7:28–33; см. также: 3 Езд 12:31–34;
2 Вар 40:1–3).
Начальными моментами будущего века будут воскресение мертвых и всеобщий суд: «День же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление, прекратится невоздержание, пресечется неверие, а возрастет правда, воссияет истина» (3 Езд 7:113–114).
Суд же должен совершиться, и с ним новый век начаться только после того, как закончится царство Мессии (см. 3 Езд 7:31–33). Из вышеприведенных цитат видно, что век Мессии будет ограниченным по времени и продлится до Страшного Суда. Автор 3-й книги Ездры обнаруживает очевидную склонность относить дни Мессии к настоящему веку или, по крайней мере, считать их прелюдией или переходным моментом от настоящего века к будущему. З. Мовинкель (S. Mowinckel) называет царство Мессии «финальным этапом настоящего века и переходным эоном»4
В сирийском апокалипсисе Варуха (2 Вар), автору которого 3-я книга Ездры, возможно, служила источником, мы находим дополнительную информацию касательно той функции, которую мы определили для временно-ограниченного мессианского века в 3-й книге Ездры, потому что в общих чертах концепции этих двух книг схожи. Отрывки 2 Вар 29:1–30:1; 40:1–3; 72:1–74:4, очевидно, повествуют о временном мессианском веке. Протоиерей А. В. Смирнов пишет о том, что «различие от воззрений Ездры состоит лишь в том, что дни Мессии получают здесь большую независимость и самостоятельность; они несколько выделяются от настоящего века и рассматриваются как промежуточный период от настоящего к веку будущему»5.
Согласно 2 Вар 74:2–3 мессианский век представляет собой смешение, или взаимопроникновение свойств настоящего и будущего веков: «Ибо это время — конец всему, что тленно, и начало тому, что нетленно. Поэтому в нем будет то, о чем было сказано прежде. Поэтому оно будет далеким от тех, кто зол, и близким тем, кто не умрет». Мессианский век в поздний период Второго храма имеет свое самостоятельное положительное значение, которое не следует преуменьшать; он уже предначи-нает эсхатологическое будущее, хотя и не тождествен грядущему веку. Согласно 3 Езд 7:30–31, дни Мессии принадлежат формально к настоящему веку, если исходить из теории «двух веков», но век Мессии уже дает наслаждение (см. 3 Езд 7:28) и открывает собой блага будущего века. Это — не просто водораздел, или черта, на воображаемой линии истории, но полноценный период времени. Век Мессии в своих свойствах принадлежит как настоящему, так и будущему векам. Эти наблюдения существенны для исследования концепции «двух веков» в богословском наследии апостола Павла.
Вышеотмеченное смешение свойств двух веков как одна из главных характеристик мессианского века позволяет провести параллель с учением апостола Павла о сосуществовании «новой твари» во Христе Иисусе (2 Кор 5:17; Гал 6:15; Еф 2:10; Тит 2:14) в настоящем «лукавом веке» (Гал 1:4; 2 Кор 4:4; Еф 6:12; 2 Тим 4:10). Учение о смешении свойств двух веков в мессианском веке является отличительной особенностью Павловой эсхатологии.
Апостол Павел описывает мессианский век, или период между двумя пришествиями Христа, как один из аспектов «великой благочестия тайны» (1 Тим 3:16), как «тайну Христову» (Еф 3:4; 4:3), то есть как таинственное участие верующих в Воскресении Христовом (Флп 3:10; ср. Откр 20:6), «в святости Его» (Евр 12:10), «в наследии святых во свете» (Кол 1:12) и в Царстве Его (Кол 1:13). Отныне стала возможной новая форма существования для верующих: «жизнь Иисусова» (2 Кор 4:10–11), или «жизнь во Христе» (Рим 8:2; см. 2 Кор 5:17). Таинственная «жизнь во Христе» стала новшеством не только для иудаизма периода Второго
Храма, но и для всего мира, потому что о тайне сей «от вечных времен было умолчано» (Рим 14:24).
В промежуточный период между двумя пришествиями Мессии для верующих сосуществуют «настоящий лукавый век» (Гал 1:4) и «Царство Сына» (Кол 1:13). Верующие все еще живут в присутствии смерти и зла; они подвластны различным искушениям лукавого. Устои и нормы настоящего века не могут становиться нормами для христиан, ибо они антагонистичны (Рим 12:1–2)6.
По мысли апостола Павла, именно те, кто уверовал во Христа и «запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего» (Еф 1:13–14; см. также: Рим 8:23) уже не живут лишь в настоящем веке, но в области взаимопроникновения, или сопряжения, двух веков7; они уже вкусили «дара небесного» (Евр 6:4) и «сил будущего века» (Евр 6:5). Христиане пребывают «в Адаме» (1 Кор 15:22) и продолжают быть в Адаме, пока живут на Земле. Но они также и уже «во Христе», ибо после Воскресения Христова: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор 5:17). Христиане — люди, живущие в другой сфере бытия, для которой апостол Павел имеет соответствующие термины.
Основной термин Апостола для изображения нового существования христиан — «во Христе» (Рим 8:1; 1 Кор 15:22; 2 Кор 5:17; Гал 3:28). Соответственно, кто не имеет закона «духа жизни во Христе Иисусе», тот находится под властью «закона греха и смерти» (Рим 8:2) и числится в группе тех, кто «в Адаме» (1 Кор 15:22). Те же, кто «во Христе» получают даром оправдание и искупление (Рим 3:24; Еф 1:7), стали «живыми для Бога»
(Рим 6:11) и получателями «дара Божия — жизни вечной во Христе Иисусе» (Рим 6:23), свободны от всякого осуждения (Рим 8:1), освящены во Христе Иисусе (1 Кор 1:2), являются новым творением и примирены с Богом (2 Кор 5:17–18), наследуют «благословение Авраамово», будучи сынами Божьими (Гал 3:14, 26; ср. Еф 1:5), оживотворены и посажены на небесах во Христе Иисусе (Еф 2:6). Общество всех верующих становится «одним телом во Христе» (Рим 12:5), в Котором нет уже различий по расовой, половой и классовой принадлежности (Гал 3:28; 5:6). Те, кто уже «во Христе» как единое Тело Христово, ожидают будущего завершения своего спасения, воскресения тела (1 Фес 4:16; 1 Кор 15:16–23), чтобы, как подытожил св. ап. Иоанн Богослов, «наследовать всё» (Откр 21:7).
Здесь следует заметить, что существенным отличием между апока-липтикой и новозаветным апостольским благовестием является именно тот факт, что первая зачастую разобщает человечество, противополагая Израиль другим народам8, а второе, наоборот, проповедует во Христе совершенное преодоление всякого конфликта, разделения и преграды (см. Еф 2:14; Гал 3:27–29) между иудеями и язычниками.
Таким образом, намечается следующее положение: в эсхатологии апостола Павла наблюдаются аналогичные черты с эсхатологией, которая предполагает измененную концепцию «двух веков», полагая посередине веков временный промежуточный мессианский век (3 Езд, 2 Вар и ранние пласты Мишны). Тем не менее, мы не в праве говорить о полной аналогии между концепцией мессианского века в межзаветной апокалиптике и у св. Павла Апостола, так как самые заключающиеся в них положения в корне различны. Они соотносятся как «тень» и «истина». Ветхозаветным мессианским откровениям как «многочастным и многообразным» (Евр 1:1) нельзя придавать то же значение, что и совершенному Откровению в Сыне, «в последние дни» (Евр 1:2). Христиане стоят перед фактом и живой Личностью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Тем не менее, ветхозаветное Откровение Божие, будучи динамичным и постепенным, многочастным и многообразным — позволяет говорить о нем в подобиях, типологиях и традициях. В таком случае, если послания апостола Павла по времени написания являются более ранними, чем означенные выше межзаветные литературные памятники, то вопрос о литературной зависимости Апостола даже, в принципе, не стоит. Но может стоять вопрос об общности школы, традиции или общего мировоззренческого образования.
К. В. Еммет (C. W. Emmet), цитируя мнение К. Г. Монтефиоре (C. G. Montefiore)9, считает, что проблематика 3-й книги Ездры принадлежит к другой школе, чем палестинский иудаизм, и соприкасается во многом с кругом проблем посланий апостола Павла. Другими словами, она представляет собой иудаизм диаспоры10. Палестина того времени была пропитана эллинизмом и вавилонизмом, которые оказали огромное и разностороннее воздействие на идеологическую оригинальность и чистоту палестинского иудаизма.
А. С. Варшавский подчеркивает тот факт, что два великих реформатора дохристианского иудаизма — Ездра и равви Гиллель — были родом из Вавилонии11. Гиллель, председатель великого иерусалимского синедриона и глава академии раввинов, родом из Вавилонии, был по линии отца из колена Вениаминова, как и апостол Павел. Его учителями были раввины Шемая и Автолион, которые были потомками эллинистов, или даже прозелитов; Талмуд называет их «потомками язычников»12. Его внук и преемник в сане «наси» св. прав. Гамалиил I († 50 г.) был учителем св. ап. Павла (см. Деян 22:3). Сравнение 3-й книги Ездры и богословия апостола Павла позволяет, в продолжение мысли К. Г. Монтефиоре, предположить, что дохристианский иудаизм апостола Павла не принадлежал к типу традиционного палестинского иудаизма. Тем не менее, по мысли У. Д. Дэйвиса, из этого не следует, что он не мог быть представлен в том же идеологическом центре палестинского иудаизма — Иерусалиме.
В этот период в Иерусалиме не наблюдается разительной дихотомии между палестинским и эллинистическим иудаизмом13. В продолжение мысли Дэйвиса, В. П. Фёрниш (V. P. Furnish) подчеркивает, что палестинский иудаизм времен апостола Павла, будучи глубоко эллинизированным во многих отношениях, был сложным явлением. Поэтому сложно сказать определенно, в каком именно течении обращался Апостол до своего призвания на пути в Дамаск14.
Ввиду обозначенных богословских параллелей намечается вывод, что апостол Павел, до своего обращения ко Христу и автор 3-й книги Ездры принадлежали к одному течению в иудаизме периода Второго Храма. Л. Буйе считает, что богословские аналогии между 3-й книгой Ездры и посланиями Апостола объясняются общим источником, в особенности, если 3-я книга Ездры вышла (как это, по-видимому, и было) из окружения Гамалиила, в котором апостол Павел получил свое первоначальное религиозное образование15. К. В. Еммет пишет: «Если бы ап. Павел не стал христианином, то написал бы подобный апокалипсис, как 3 Езд, а Ездра стал бы верным продолжателем богословия ап. Павла, если бы принял христианскую модель решения тех проблем, которыми он был озадачен»16. В продолжение этой мысли Г. Бокачини (G. Boccaccini) называет автора 3-й книги Ездры «Павлом без Христа» и верным свидетельством того, в какую меру отчаяния пришло бы человечество без милости Христа17.
Интересно, что святитель Амвросий Медиоланский, в сочинении «De bono mortis» («О благе смерти»), излагая учение о состоянии душ после смерти, считает, что апостол Павел в вопросах частной эсхатологии показывает тщательное знакомство именно с 3-й книгой Ездры, в частности (14:9), а не с писаниями античных философов. Святитель говорит: «Кто же тогда первый, Платон или Ездра? Апостол Павел следует сказанному Ездрой, а не Платоном. Ездра, вторя обращенному к нему откровению, открыл, что праведники будут с Христом и святыми, и только после этого [платонов] Сократ говорит, что спешит к своим богам и лучшим богам»18.
Заключение. Апостол Павел по собственному своему признанию добровольно отказался от своего прошлого в иудействе, надо полагать, в том числе, и от всего того, что касается научно-богословского багажа: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп 3:5–8).
Однако он не отказался от «надежды Израилевы» (Деян 28:20; см. также: Деян 26:6–7), он не обретал иного Бога, но сохранил верность Богу отцов своих, и, как «всякий книжник, наученный Царству Небесному», он «подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф 13:52; см. также: Песн 7:14). Господь не желал, чтобы человек забывал то, что он знал до того, как пришел к Нему. Он просто должен смотреть на свои знания в новом свете и употреблять их в новом служении, потому что новое и старое соединено и связано между собою. Так и Апостол вынес из своей сокровищницы «старое», то есть ветхозаветную форму или парадигму, поэтому допустимо сравнивать его богословие с современными ему иудейскими авторами, в частности с 3-книгой Ездры. Он выносит также и «новое» — дух и полноту Нового Завета, которыми наполняются образы Ветхого Завета.
Выше были обозначены возможные параллели между эсхатологическими идеями апостола Павла и двумя иудейскими апокалипсисами классического римского периода: 3 Езд и 2 Вар, которые касаются концепций «двух веков» и мессианского века.
В западной библеистике уже стало нормой при малейшей замеченной параллели между двумя авторами горячо доказывать, что один из них, непременно, вдохновлен творением другого. Этот подход отличается от методологии православной библейской науки, для которой «параллель» необязательно означает влияние, а влияние не есть еще источник. Предложенная реконструкция дохристианского иудаизма апостола Павла остается гипотетической, особенно в свете следующей аксиомы св. Павла христианина: «древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор 5:17).
Допуская общность воспитания, школы, или традиции, между ним и авторами означенных апокалипсисов, следует говорить о всецелой христологической реинтерпретации и осмыслении иудейских эсхатологических доктрин в богословии апостола Павла: для него, как и для полноты Церкви Христовой, Мессия уже пришел, мессианский век уже начался. Необходимо подчеркнуть главное расхождение между 3 Езд, 2 Вар и Павловыми посланиями: Ездра, так же, как и Варух, и раввины-таннаи оперируют лишь абстракциями, задаются бесчисленными вопросами, ибо «умы их ослеплены» (2 Кор 3:14), «покрывало лежит на сердце их» (2 Кор 3:15), тогда как апостол Павел, обратившийся «ко Господу» (2 Кор 3:16), знает все ответы, действует «с великим дерзновением» (2 Кор 3:12) и «открытым лицем» взирает «на славу Господню» (2 Кор 3:18), ибо покрывало с его лица было снято Христом (2 Кор 3:14).
Список литературы К вопросу о дохристианском иудаизме святого апостола Павла в свете иудейской межзаветной апокалиптики
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: РБО,2000.
- Амвросий Медиоланский, свт. О благе смерти/пер. Е. П. Аристова//ΣΧΟΛΗ.2014. Vol. 8 (2). С. 136-197. (De Bono Mortis: PL 14, 567 A -596 A).
- Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам(главы 9-16). М.: Правило веры, 2006. 544 с.
- Аржанов Ю. Н. Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы: Апокрифические псалмы Давида, Апокалипсис Баруха, Сентенции Менандра/пер. с сир. Ю. Н. Аржанова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. 239 с.
- Буйе Л. О Библии и Евангелии. Брюссель: Жизнь с Богом, 1988. 232 с.
- Варшавский А. С. Гиллель Вавилонский: его жизнь и деятельность. Одесса: Изд. Я. Х. Шермана, 1897. 62 с.
- Сидоров А. И. Митрополит Макарий (Оксиюк) и его церковно-научная деятельность //Макарий (Оксиюк), митр. Эсхатология св. Григория Нисского. М.: Паломник, 1999. LV, 674 с.
- Смирнов А. B., прот. Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа (от Маккавейских войн до разрушения Иерусалима римлянами). СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010. 536 с.
- Boccaccini G. Te Evilness of Human Nature in 1 Enoch, Jubilees, Paul and 4 Ezra:A Second Temple Jewish Debate//Fourth Ezra and Second Baruch: Reconstructionafer the Fall/eds. M. Henze, G. Boccaccini. Leiden: Brill, 2013. P. 63-79.
- Davies W. D. Unsolved New Testament Problems. Te Jewish Backgroundof the Teaching of Jesus: Apocalyptic and Pharisaism//The Expository Times. 1948.Vol. 59: June. P. 233-240.
- Emmet C. W. Te Fourth Book of Esdras and St. Paul//Te Expository Times.1916. Vol. 27. P. 551-556.
- Furnish V. P. On Puting Paul in his Place//Journal of Biblical Literature. 1994.Vol. 113 (1). P. 3-17.
- Gry L. Les Dires Prophétiques d’Esdras (IV Esdras). Paris: P. Geuthner, 1938.CXXVI, 474 p.
- Hengel M. Judaism and Hellenism. Studies in their Encounter in Palestine duringthe Early Hellenistic Period. Vol. I-II. Philadelphia: Fortress Press, 1981. 649 p.
- Montefiore C. G. Judaism and St. Paul: Two Essays. London: Max G., 1914. 240 р.
- Mowinckel S. He Tat Cometh. Te Messiah Concept in the Old Testamentand Later Judaism. Grand Rapids: Eerdmans, 2005. 528 p.
- Schoeps H. J. Paul. Te Teology of the Apostle in the Light of Jewish ReligiousHistory. London: Luterworth press, 1961. 303 р.