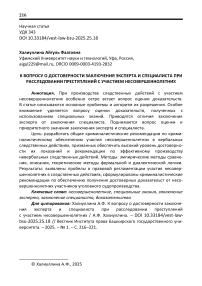К вопросу о достоверности заключения эксперта и специалиста при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних
Автор: Халиуллина А.Ф.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-разыскная деятельность
Статья в выпуске: 1 (25), 2025 года.
Бесплатный доступ
При производстве следственных действий с участием несовершеннолетних особенно остро встает вопрос оценки доказательств. В статье описываются основные проблемы и алгоритм их разрешения. Особое внимаение уделяется вопросу оценки доказательств, полученных с использованием специальных знаний. Приводятся отличия заключения эксперта от заключения специалиста. Поднимается вопрос оценки и приоритетного значения заключения эксперта и специалиста.
Несовершенолетние, специальные знания, заключение эксперта, заключение специалиста, доказательства
Короткий адрес: https://sciup.org/142245272
IDR: 142245272 | УДК: 343 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2025.25.18
Текст научной статьи К вопросу о достоверности заключения эксперта и специалиста при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних
Введение. По делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, вопрос о достоверности показаний детей и подростков возникает с завидным постоянством и нуждается в решении. На сегодняшний день установить соответствие сообщаемых детьми сведений действительности, если и возможно, то только по косвенным признакам, например, по признакам ограниченной способности конкретного ребенка, правильно воспринимать события и явления или давать им адекватную оценку, то есть по признакам издержек формирования здоровой психики. Вполне справедливо отмечает Р.И. Зайнуллин в своих исследованиях, что исходя из когнитивной и психосоциональной незрелости, а также сильной внушаемости подростков, от правоприменителя требуетсяся критическая оценка его показаний [1, с. 70].
Достоверность, по крайней мере, субъективного отношения допрашиваемых к сообщаемым ими сведениям, иначе говоря, их искренность, не стоит от- вергать категорично. Наука постоянно развивается, создаются новые средства познания, в том числе познания особенностей психики человека. Сегодня, к примеру, созданы вполне надёжные методики исследования психофизиологического состояния человека с помощью полиграфа. Я.В. Комиссарова отмечает, что в правоохранительной деятельности исследования с применением полиграфа наиболее востребованы в ситуациях дефицита информации, необходимой для определения оптимальных направлений работы: при получении противоречивой ориентирующей информации, сообщении гражданами взаимоисключающих сведений, наличии неустранимых противоречий между показаниями участников процесса и другими доказательствами по уголовному делу [2, с. 326]. Другой вопрос, что проверки на полиграфе не должны, во всяком случае пока, применяться к несовершеннолетним в силу специфики их восприятия действительности, часто искаженного, влекущего за собой добросовестное заблуждение, которое «полиграфология» с её современными достижениями распознать не в состоянии. Видимо, именно по этой причине бессмысленно применение психофизиологического метода диагностики «лжи» (полиграфологии) к тем лицам, кто убеждён в достоверности сообщаемых им сведений.
Однако то, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать реальностью.
Оценка деятельности сведующих лиц. По делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, проблема установления достоверности собранных доказательств возникает не только в отношении вербальной информации, получаемой в процессе производства соответствующих следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, но и достоверности иных средств доказывания. Сомнительными в этом отношении могут оказаться любые из них, начиная с вещественных доказательств, документов-источников доказательств и заканчивая заключениями экспертов и специалистов. Подтвердить или опровергнуть их достоверность не менее важно, а порой и не менее сложно, нежели установить достоверность показаний детей. Для решения этой задачи следствие и суд могут также воспользоваться помощью сведущих лиц. Однако в большинстве своём такие качества допрошенных лиц, как уровень их психического развития, могут быть выявлены только одним способом, основу которого составляет использование специальных знаний. Например, путём проведения судебно-психологической или судебно-психиатрической экспертизы, решающей вопросы об адекватности восприятия несовершеннолетними событий и явлений или о точности воспроизведения ими воспринятого. Как заметил Л.Л. Каневский, «в случае возникновения сомнений в способности несовершеннолетнего или малолетнего свидетеля (потерпевшего) правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них объективные показания» должна назначаться судебно-психологическая экспертиза [3, с. 90]. Этот способ проверки и оценки показаний несовершеннолетних, как можно убедиться, преобладает в современной практике раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с участием детей, подростков или юношей. Понятно, что установленная экспертом-психологом неспособность конкретного несовершеннолетнего правильно воспринимать событие может только поставить под сомнение достоверность его показаний, но не дает оснований это утверждать.
Для устранения сомнений в достоверности заключений сведущих лиц и сформулированных в них выводов закон предусмотрел возможность повторного к ним обращения, однако прямо указал на такую возможность лишь для проверки достоверности экспертных заключений. То есть путём назначения повторной экспертизы, призванной ответить на те же вопросы, которые решала первичная, но с привлечением других экспертов. Либо путём проведения дополнительной экспертизы для устранения неполноты или односторонности первичного исследования.
Между тем, в отличие от экспертизы, повторное привлечение специалистов для дачи заключений по тем же вопросам, которые ранее уже были ими решены, но их решения оказались сомнительными с точки зрения достоверности высказанных по ним суждений, закон не предусматривает. Тем не менее, мы полагаем, что повторное обращение к специалистам с теми же вопросами вполне правомерно, хотя бы ввиду отсутствия на то законодательного запрета. Именно по этому пути идёт практика.
Решая вопрос о назначении повторного исследования тех же объектов с использованием специальных знаний, следует иметь в виду, что его проведение может оказаться бессмысленным либо физически невозможным по ряду причин. Так, повторная экспертиза невозможна в случае полного, а иногда и частичного израсходования объекта исследования или его существенного изменения в результате разрешённого уполномоченным лицом использования разрушающих методов и средств при производстве первичной экспертизы. Кроме того, свойства исследуемого объекта могут измениться по естественным причинам (неблагоприятные условия хранения, естественное старение, внешнее воздействие сил природы и т.д.), и такие изменения сделают невозможным повторное их исследование, которое, если его всё же провести, закономерно даст результаты, опровергающие выводы первичной экспертизы, но не опровергающие их достоверность. В этих случаях повторные исследования объектов с пороками их качественной определенности становятся бессмысленными или нецелесообразными. Разве что инициатор их проведения окажется заинтересованным в получении результатов, заведомо опровергающих выводы ранее проведенной первичной экспертизы. Но такое решение о повторном исследовании должно будет рассматриваться как заведомо неправосудное со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями его принятия.
Между тем проблема остаётся даже при существовании возможности повторного исследования и требует решения, в частности ответа на вопрос о том, как оценить достоверность заключения сведущего лица, если назначение повторного исследования невозможно, нецелесообразно или бессмысленно.
Предложений, ориентированных на решение данной проблемы, было внесено немало. Среди них А.А. Эксархопуло выделяет две более аргументированные: либо вводить на законодательном уровне так называемые «конкурирующие экспертизы», проводимые параллельно, и обеспечивающие «состязательность» экспертных заключений, полученных по назначению стороны обвинения и стороны защиты, либо привлекать специалистов того же профиля для оценки экспертных заключений [4, с.104].
Второй путь решения проблемы более приемлем, тем более, что никакая «конкурирующая» экспертиза, также как и повторная, невозможна в ситуации, когда объекты исследования были при производстве одной из них израсходованы или утрачены по тем или иным причинам, о чём указывалось выше. Привлечение сведущих лиц в статусе специалистов предпочтительнее ещё и потому, что внесённые в уголовно-процессуальный закон в 2003 году нововведения такую возможность вполне допускают, предоставив сторонам право обращаться к специалистам вопросами, на которые они отвечают в своих письменных заключениях, дополнивших перечень законных источников доказательств (п. 3.1. ст. 74 УПК РФ).
Это подтвердил и Верховный суд РФ, записав в п. 19 своего Постановления №28 от 21.12.2010 года «О судебной экспертизе по уголовным делам» следующее: «для оказания помощи в оценке заключения эксперта … по ходатайству стороны или по инициативе суда может привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает в форме устных показаний или письменного заключения».
Выводы. Таким образом, достоверными могут быть признаны только заключения, подготовленные при соблюдении сведущими лицами принципов полноты, всесторонности и объективности проведенного ими исследования, а также научной обоснованности и достоверности сформулированных на его основе выводов. И поэтому категорическое отрицание даже потенциальной возможности использования специальных знаний для экспертного установления достоверности сведений, сообщаемых несовершеннолетними, на наш взгляд, следует воспринимать как контрпродуктивное, тормозящее и развитие науки, и формирование нового научного знания о психологии их личности.