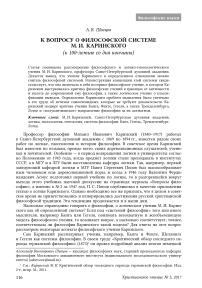К вопросу о философской системе М. И. Каринского (к 100-летию со дня кончины)
Автор: Шевцов Александр Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 5 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению философского и логико-гносеологического учения М. И. Каринского, профессора Санкт-Петербургской духовной академии. Делается вывод, что учение Каринского в определенном отношении можно считать философской системой. Реконструкция концепции этой системы свидетельствует, что она включала в себя историко-философское учение, в котором Каринским выстраивалась критика философских учений в границах от античности и вплоть до современной ему философии, а также логическое учение о классификации выводов. Определение Каринским проблем мышления было увенчано в его труде об истинах самоочевидных, которые не требуют доказательств. Каринский подверг критике учения Канта, Фихте, Гегеля, а также Тренделенбурга, Лотце и «полукантианское» направление философии за их догматизм
М. и. каринский, санкт-петербургская духовная академия, логика, гносеология, онтология, система философии, кант, гегель, тренделенбург, лотце
Короткий адрес: https://sciup.org/140223455
IDR: 140223455
Текст научной статьи К вопросу о философской системе М. И. Каринского (к 100-летию со дня кончины)
Профессор философии Михаил Иванович Каринский (1840–1917) работал в Санкт-Петербургской духовной академии с 1869 по 1894 гг., известен рядом своих работ по логике, гносеологии и истории философии. В советское время Каринский был известен по отзывам, прежде всего, своих дореволюционных слушателей, учеников и почитателей. Особенно — в период возвращения логики в университеты согласно Положению от 1943 года, когда предмет логики стали преподавать в институтах СССР, а в МГУ и в ЛГУ были восстановлены кафедры логики. Так, например, первый заведующий кафедрой логики в МГУ Павел Сергеевич Попов был высокообразованным человеком еще дореволюционной поры, и когда в 1946 году Валентин Фердинандович Асмус подготовил первый учебник по логике, то в разгоревшейся вокруг выхода этого учебника научной дискуссии на страницах журнала «Вопросы философии», а именно в № 2 за 1947 год, П. С. Попов опубликовал в качестве приложения статью о логике Каринского. Однако необходимо все же признать, что в целом в советское время не приветствовались и игнорировались достижения русской христианской философской традиции. Эта тенденция продолжается и в наши дни.
Насколько справедливо говорить о философии, о логическом учении М. И. Карин-ского как об определенной системе? Если под «системой философии» того или иного мыслителя, например Канта или Гегеля, понимать всеохватную и всеобъемлющую модель философского учения, то возникает вопрос, а насколько соответствует, точнее, соответствовала ли философия Каринского такой модели? Для ответа на этот вопрос рассмотрим некоторые аспекты философского учения Каринского.
философской мысли, говоря о концепциях немецких мыслителей, характеризуя эти концепции как «системы». Остановимся подробнее на этой характеристике. Важной вехой в научно-философском развитии М. И. Каринского явился его переход 13 мая 1874 г. на кафедру истории философии в СПбДА. А. Л. Катанский и С. М. Лукьянов предположили, что Каринский мотивировал это осторожностью, а также некоторой неготовностью «выработать самостоятельную систему философии»2. К этому периоду творческой эволюции мыслителя относятся, кроме упомянутого выше «Критического обзора…», следующие работы: «К вопросу о позитивизме» (1875), «Явление и действительность» (1878), далее последовала его знаменитая докторская диссертация «Классификация выводов» (1880). В этих работах ученого мы видим как систематизацию и своего рода «инвентаризацию» учений прошлого, так и выработку собственной логико-гносеологической системы философии.
В центре внимания М. И. Каринского всегда были проблемы, связанные с поиском первых фундаментальных оснований мышления, истины. Теорию истины он считал наиважнейшей, причем различал проблему выводных истин и проблему самоочевидных истин. Логически правильный вывод требует здесь особых отношений между мыслью, которая доказывается, и мыслью, которой доказывается. Эта проблема у Каринского рассматривается в особой логике, в теории классификации, в которой он дал исчерпывающую систему определений и классификацию выводов (мыслей доказываемых и мыслей доказывающих). Логическая система отношений между определениями мыслей доказываемых и тех, которыми доказываются другие мысли (посылки), требовала введения границы. Такое разграничение Каринский предложил ввести в своей системе как теорию «переноса», где за основание вывода принимается умозаключение от группы посылок к агрегату. Следовательно, мышлением будет называться такая деятельность ума, которая идентифицирует, определяет в общем субстрате значений (мыслей) и, затем, доказывает или воспринимает их достоверность, что совершается как перенос от группы (субстрата) к агрегату доказанных или самоочевидных мыслей (значений).
Говоря о возникновении целого направления фихте-гегелевской философии, Ка-ринский писал, что причиной для его возникновения послужило противоречие, обнаруженное в «Критике чистого разума» ее противниками и вызывавшее потребность выйти за пределы концепции Канта. Каринский заметил, что, «отрицая положительно всякую возможность познания вещей, как существуют они сами в себе, Кант не был настолько последователен, чтобы отрицать вместе с тем и всякое участие этих вещей в процессе нашего знания»3. По Канту получалось, писал далее Карин-ский, что «содержание чувственного восприятия должно было быть дано извне через действие предмета на душу»4. Но это и было нерешенным противоречием концепции Канта: «Если достоверно участие вещей самих по себе в образовании наших восприятий, то они не могут уже быть признаны безусловно непознаваемыми, — писал Каринский, — мы познаем в таком случае действие их на душу, их участие в образовании восприятий, и затем, конечно, все то, что можно логическим путем вывести из этих данных»5. То есть действие «вещей в себе» не есть само по себе априорно, ведь если нам известно, что, по крайней мере принципиально, это их воздействие, как некая причинность, приводит к образованию в нашем сознании именно такого ряда более или менее конкретных фактов, то, следовательно, по крайней мере уже этот эффект причинения мы о «вещах в себе» точно знаем. И если нам как бы «точно» известны причины или о причинах, и нечто известно о структурах порождающих, образующих все последующие восприятия (которые мы наблюдаем и можем фиксировать в опыте), — мы наверняка знаем, но вместе с тем одновременно и «как бы не знаем», то отсюда возникает следующая проблема. Если мы изучаем предметы и вещи, пусть диалектически, постоянно находимся в уточнении наших познавательных усилий и одновременно «как бы догадываемся» до изначальных причин, приведших к нашему конкретному знанию, то этой самой априорности и вовсе как бы и нет. Это был некий методологический прием Канта, но на самом деле «априорность» — это начальный опытный пункт, все равно как некий познавательный исходный момент, некий «0», где после него идет натуральный числовой ряд. На «0» мы не смотрим и его не учитываем, так как там же и ничего еще не было.
Каринский задается вопросом о том, на каком основании Кант мог возводить содержание восприятий к действию вещей самих в себе, то есть к а к нечто конкретное, хотя бы известное в малой степени, приобретается из совершенно неконкретного? Если ощущение, как действие, предполагает причину, то внешние вещи должны быть причиной последующих наших ощущений. «Но закон причины и действия есть одна из основных форм синтеза нашей познавательной деятельности»6, а чтобы выводить на основании закона причинности существование «вещей в себе», надо было допустить, что они регулируются законами нашей (!) умственной деятельности, а это последнее, доказывал, таким образом, Каринский, «прямо противоречило основным результатам „Критики чистого разума“»7.
По мысли отечественного философа, Кант именно поэтому и строил здесь свои выводы на том, что был сам убежден, что поскольку предмет познания есть, как и наша способность к овладению им, то он, следовательно, находится в нас, а поскольку он одновременно был и как бы «вне нас», то он, Кант, поэтому и предложил идею о «представлении» и «явлении». Таким образом, с неизбежностью выходило, что «предмет познания оказывается послушным нашим формам синтеза, что он есть только явление в нас и не имеет никакой реальности вне нас»8. И отсюда возникало подмеченное Каринским критичное противоречие: так «каким же образом значение этих законов можно было распространить на вещи, как они существуют сами в себе, вне нашего духа»9? Программа Канта должна была последовательно вести к солипсизму, но так как она здесь была непоследовательна, то и такого агностического солипсизма не получилось. С одной стороны, восприятие кантовской модели мышления открывало некую смысловую глубину, а с другой стороны, сознание это как бы фиксирует, но как бы продолжает мыслить «дальше», и «некоей остановки перед барьером» не получалось.
Каринский писал, что принятие Кантом понятия «вещи в себе» для теории познания оказывалось догматическим, некоей аксиомой, и единственным путем избавления от этой критичной (противоречащей самой логике рассуждения его, Канта, о процессе познания) ситуации, был просто отказ от «вещи в себе». Единственный путь здесь состоял в том, чтобы «последний элемент познания, оставшийся еще не возведенным к субъективным условиям, именно содержание чувственного восприятия, освободить от зависимости от бытия, стоящего вне мысли»10. Этот шаг и совершил Фихте в своем «Наукоучении» (1794–1810).
Система философской гносеологии Фихте решала задачу объяснить объект из самой сознательной деятельности, без привлечения какого-либо влияния деятельности с самими внешними вещами. Фихте, по Каринскому, объяснял это тем, что мысли приписывалась продуктивная сила воображения, которая обладала двумя противоположными эффектами, что производило в результате при постоянном рефракционном отображении сознания его восприятия, с одной стороны, а с другой — вводило затруднения, возникающие «из свойств самого существа этой силы», что и является причиной, «по которой в эмпирическом сознании являются объекты»11. Каринский объяснил процесс объективации сознания у Фихте, в свою очередь, тем, что у Фихте эта «сила», управляющая сознанием при движении вовне и в себя внутрь (почему мы и видим предметы, по Фихте), но она должна находиться именно «за пределами сознания и служит именно условием, при котором только является и может явиться сознание: пред сознанием таким образом объект является уже как готовый продукт и как проявление силы неизвестной сознанию»12. Это действительно очень существенное уточнение Каринского, внесенное им в критику концепции сознания Фихте, — оно существенным образом и обновляет модель Фихте в вопросе объектов внешнего мира, и, одновременно, опровергает ее, как уже наивную. Таким образом, путь доказательств сознания, как его выстраивал Фихте, приводил к материализму и механицизму, а другой путь — из взаимодействия чистого «я» и вещи в себе — отрицался Фихте, потому что соединение противоположных подходов отрицает всякую возможность построения системы. Для самого Фихте возможность построения философской системы была обусловлена единством принципа, то есть, с точки зрения этого требования, нельзя допускать более чем одно реальное начало для объяснения явлений человеческого сознания.
Заслуга и ценность теории Фихте, по Каринскому, заключалась в том, что она смогла опровергнуть концепцию «вещи в себе» Канта и была осуществлена как некая точка поворота, которая «состояла в отрицании самого бытия вещи самой в себе, как бытия независимого от мысли»13. Если есть «вещь в себе», то бытие есть вечно неразгаданная загадка для человека, если ее нет — бытие насквозь прозрачно для человеческой мысли. Таким образом, Фихте обосновывал неизбежность вывода о самостоятельном развитии эмпирического сознания. «Вещь сама в себе» оказывалось понятием, которое только, и исключительно как излишняя добавка, «примышляется» к действительной вещи, а поэтому и само есть мысль, не более того. Но если мыслить какую-либо вещь, то не является ли ее мыслимое представление тоже представлением, а значит и мыслью? То есть вещь может быть помыслена лишь как объект мысли, писал Каринский. Отсюда Каринскому становилось очевидно, что «вещь в себе» Канта, равно как и его «априори», суть понятия, сконструированные естественно в мысли, со всеми их изводами, произведениями. Но здесь речь может идти только, как подчеркнул Каринский, «только об этой чистой активности, о реальном <то есть о действительном мире как он есть>, все содержание которого исчерпывается самым его деятельным состоянием»14.
Фихте не мог допустить в природе равнозначное по степени реальности бытия существование, как у человека, поэтому природа у него была простым объектом абсолютного «я», только как феномен в жизни сознания. Каринский полагал, что систему философии Фихте стал продолжать Гегель, который добавил историю и осмыслил ее в фихтеанском ключе, а самой важной заслугой философии Гегеля была его разработка логики, а точнее онтологии15. Каринский считал философию Гегеля наиболее последовательной на фоне рационалистических систем, высоко оценивая лежащий в ее основе принцип развития. Идея развития, по его мнению, «была особенно хороша тем, что подтверждалась фактами истории жизни человечества, гипотезами естествознания о поступательном движении в жизни природы»16. Однако коренным недостатком гегелевской системы, не позволившим Каринскому полностью принять ее, было то, что исходным началом в философии Гегеля служило саморазвитие чистой идеи, Абсолютного. «То, чему Кант давал значение лишь форм мысли, — отмечал он, — Гегель превратил в содержание, в реальную основу всякого бытия; ряд отвлеченных логических понятий должен был в этой философии, говоря словами Гегеля, представлять истину, как она есть сама в себе без покрова. Гегель именно вопрос о бытии поставил на то место, которое должно было принадлежать ответу на него»17.
Каринский подробно, анализируя самую суть, рассмотрел системы философии, возникшие после Фихте, такие например, как Куно Фишера, Фортлаге и Эдуарда Целлера. Причем именно теория Целлера, тесно связанная с разбором актов мышления, деконструкцией процесса мышления, являвшаяся, по сути, пограничной на рубеже областей психологии и теории познания, вызвала у Каринского согласие. Целлер развивал идею, что должна существовать причина существования и деятельности души, «но что душа, наоборот, не только своим происхождением обязана отличной от нее причине, но и в самом своем существовании и деятельности зависит от общих сил и законов, или точнее от одной последней общей причины всякого бытия»18. Без этого последнего предположения о едином основании всякого бытия, по мнению Целлера, как писал Каринский, и не могло быть объяснено взаимодействие, в котором состоят все существующие предметы. А вот центральный пункт своего учения о душе как начале осуществления жизни Целлер, по Каринскому, видел в том, что «Простое существо души делается способным к развитию психической жизни только благодаря образованию пригодного к тому телесного организма». При условии наличия такого организма «получаются возбуждения для этой жизни и совершается ее усложнение и развитие»19. Причем Каринский ставил в заслугу Целлеру объяснение им роста знания с увеличением ассоциаций, или связей образов, выстраивающихся в сознании по аналогии. Эта тема получит впоследствии фундаментальное обоснование в труде Каринского «Классификация выводов» (1880) в учении о гипотезе, аналогии и аппре-генсии (понимании).
Система Целлера и привела Каринского к разрешению ответа на вопрос, почему именно система Гегеля, а не, скажем, самого Целлера или Фортлаге, является наиболее принятой и востребованной. Каринский заключил, что «направление, завершением которого была гегелева система, и всего более эта самая система — серьезно поставила вопрос о смысле, идеальном значении бытия; только она понимала бытие во всей его целости как воплощение целей вечного разума и пыталась понять мыслью эту разум-ность»20. Такую оценку дал Каринский системе философии Гегеля и охарактеризовал ее подлинный смысл в следующих словах: только система философии Гегеля «поняла, в чем состоит для ума высшая и самая глубочайшая загадка в бытии, и с замечательной смелостью хотела всю целость бытия понять и представить как процесс самоосу-ществления самой разумности»21.
После Гегеля Каринский увидел оригинальное развитие философской системы уже у Тренделенбурга22. Так, Тренделенбург, усомнившись в постановке и решении Кантом вопроса о пространстве и времени как о субъективных представлениях, справедливо предполагал: почему эти представления не могут быть и объективными? И не могут быть и субъективными и одновременно также и объективными форма-ми?23 Теория тождества будет развита М. И. Каринским позднее, в «Классификации выводов» (1880) и далее в «Об истинах самоочевидных» (1893). Но русский философ именно у Тренделенбурга увидел, что тот первый попытался найти деятельность, общую бытию и познанию. «Стараясь из нее объяснить все то, что Кант назвал формами познавательных процессов, Тренделенбург первый пытается дать реальную подкладку для мысли о единстве форм мышления и бытия»24. Такая деятельность есть движение, она одинаково равно присуща и мышлению, и бытию. Каринский подчеркнул решение Тренделенбургом проблемы характера движения. Движение необходимо должно быть «противообразом» (Gegenbild, термин Тренделенбурга), поэтому оно и отображается в сознании. Для этого Тренделенбург даже различал движение на внешнее и на конструктивное. Доказывая в посылке тождество движения внешнего и конструктивного, Тренделенбург распространял его, по Каринскому, на все взаимодействия в природе, подчеркивая диалектический тезис о тождестве бытия и мышления. И что более важно — на соединение субъективного и объективного. Каринский показал, что Тренделенбург не разделял точку зрения Канта на пространство и время как на условия движения, то есть не признавал их существующими до движения. «Но эти трудности устраняются сами собой, если признать движение за первоначальную деятельность бытия и мысли, и пространство назвать внешним непосредственным порождением движения, а время — внутренней мерой движения», — передавал Каринский мысль Тренделенбурга25.
Каринский отмечал отличие Тренделенбурга от Гегеля и в вопросе движения, а именно в трактовке причинности. Причинность у Тренделенбурга объяснялась из движения, она не была внешним законом, а порождалась в самом движении. Но Тренделенбург Каринского добавляет к проблеме определения движения цель. Сам Каринский перемежает в этом тексте идеи Тренделенбурга со своими собственными, что представляет определенную трудность в многоуровневой интерпретации. О душе уже Каринский писал, что «Душа есть та определенная мысль, которая как цель воплощает самую себя в организме»26. В качестве недостатка системы Трен-деленбурга Каринский отмечал, что у него цель полностью отделена от категорий как законов движения, а сама связь между целью и общими законами бытия, «необходимая для объяснения действительного мира, оказалась чисто внешней, а поэтому непонятной и необъяснимой»27.
Каринский видел, что только у Германа Лотце, в отличие от систем Гегеля и Трен-деленбурга, добавилась «соотносительность» при описании бытия сущего одного и сущего другого. Именно Лотце указывал, что «в действительности каждый существующий предмет всегда стоит в каком-либо отношении к другим»28. Только пространство дает форму совместного существования вещей, которое есть форма отношения сущего к сущему . Отчасти противоречиво было у Лотце, что сущность не из себя порождает качественности, но она «примышляется» к ним, когда они даны в известной связи. Все зависело у него от определенной комбинации свойств, почему в нас и возникает иллюзия материи. То есть «не материя порождает известные свойства, которые мы приписываем различным предметам, а законосообразность в сочетании этих свойств производит призрак материальности»29. Каринский подчеркивал здесь, что выбор у Лотце приоритета механицизма неизбежно наталкивался на организм, поскольку механизм служил лишь средством к осуществлению органического.
Осуществив кардинальную проработку всех известных направлений и систем философии, развившихся или из кантовской критической философии, или как альтернативные ей, Каринский, подводя итоги, пришел к выводу, что главным «вопросом будущего становится проблема познания, от нового разрешения которой и должен зависеть вопрос о философском знании»30. И основная ошибка критической философии заключалась, по мнению Каринского, в том, что в ней признавались лежащие в основе операций мысли предположения о бытии, которые на самом деле должны управлять мыслью и которые (эти предположения о бытии) должны служить законом для всех помыслов (у Каринского «отправлений»).
Б. В. Яковенко в своем труде «История русской философии» (1938) относил учение М. И. Каринского к эмпиристскому критицизму 31, очевидно, учитывая и понимая при таком определении места философии Каринского, прежде всего, его логико-гносеологические труды и нашумевшую полемику с А. И. Введенским в 1894–1896 гг. Здесь характерно, что Каринский выступал в его труде уже не только русским кантианцем, может быть, по несколько преувеличенной характеристике В. С. Серебренникова и Алексея Ив. Введенского, но к критическому направлению философствования Каринского добавляется у Яковенко еще и эмпиристская компонента. Это весьма показательно, ведь до некоторых пор, скажем до революции, труды Каринского еще неразрывно ассоциировали только с духовно-академической традицией. М. И. Ка-ринский исследовал и труды английских философов и логиков: Милля, Спенсера. Во многом только после выхода труда Яковенко, историко-философское сочинение которого отразило укреплявшуюся убежденность в том, что теоретико-философское наследие Каринского было вовсе не клерикальным, но вполне научным, и философское учение М. И. Каринского стало находить свое место в ряду философских систем. Яковенко сближал учение Каринского с теориями Гамильтона, Джевонса, с критическим реализмом А. Риля и критическим позитивизмом Э. Лааса32.
Таким образом, мы считаем, что можно говорить о философской системе у М. И. Ка-ринского после проведения реконструкции его историко-философского и логико-гносеологического учений и обнаружения в них системообразующих концепций. К таковым исследованиям Каринского относятся его учение об истине, о достоверности мышления, предпринятый им критический анализ философских концепций прошлого и современных учений, построение фундаментальной логической классификации выводов. Логико-гносеологическое учение Каринского, его философская система оказываются актуальными и в наши дни.
Список литературы К вопросу о философской системе М. И. Каринского (к 100-летию со дня кончины)
- Бажанов В. А. История логики в России и СССР (Концептуальный контекст универси-тетской философии). М., 2007.
- Бажанов В. А. Логика в России и православная церковь//Логические исследования.М., 2012. № 18.
- Бажанов В. А. М. И. Каринский и Дж. Ст. Милль//Логико-гносеологическое направ-ление в отечественной философии (первая половина XX века): М. И. Каринский, В. Н. Ива-новский, Н. А. Васильев/под ред. В. А. Бажанова. М., 2012. С. 115-126.
- Бирюков Б. В. Трудные времена философии. Логика и философия в первые послеста-линские годы. Математическая логика. Кн. 2: В мире логики -математической и фило-софской. М., 2014.
- Бирюков Б. В. Трудные времена философии. Отечественная логика, история и филосо-фия в последние сталинские годы. Ч. 1: Борьба вокруг логики: диалектической, формаль-ной, математической. Челпанов, Асмус, Фохт, Поварнин, Попов, Ахманов, Лосев. Марксистско-ленинская мифология истории. М., 2012.
- Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы биографии.XIII//ЖМНП. 1917. Январь. С. 14.
- Каринский М. И. К вопросу о позитивизме//Православное обозрение. 1875. № 10(октябрь). С. 345-375.
- Каринский М. И. Классификация выводов//Избранные труды русских логиковXIX в. М., 1956. С. 3-192.
- Каринский М. И. Критический обзор последнего периода германской философии. М.,2011.
- Каринский М. И. Об истинах самоочевидных. СПб., 1893.
- Катанский А. Л. Воспоминания старого профессора (с 1877 по 1913 г.)//Христиан-ское чтение. 1916. Февраль. С. 196-197.
- Коцюба В. И. Духовно-академическая философия XIX столетия в немецкой истори-ко-философской науке XX в.//Вопросы философии. 2017. № 2. С. 117-127.
- Радлов Э. Л. М. И. Каринский. Творец русской критической философии. Пг., 1917.
- Радлов Э. Л. Очерк истории русской философии//Введенский А. И., Лосев А. Ф.,Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии/сост, вступ. ст., примеч.Б. В. Емельянова, К. Н. Любутина. Свердловск, 1991. С. 96-216.
- Тренделенбург А. Элементы логики Аристотеля/под общ. ред. Н. А. Дмитриевой. М.:Канон+; РООИ «Реабилитация», 2017.
- Фихте И. Г. Наукоучение в его общих чертах//Он же. Сочинения: в 2 т. СПб., 1993.Т. II. С. 771-789.
- Шевцов А. В. М. И. Каринский и русская гносеология конца XIX -начала XX века.М.: Мир философии. 2017. 303 с.
- Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии//Введенский А. И., Лосев А. Ф.,Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии/сост, вступ. ст., примеч.Б. В. Емельянова, К. Н. Любутина. Свердловск, 1991. С. 217-592.
- Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003.