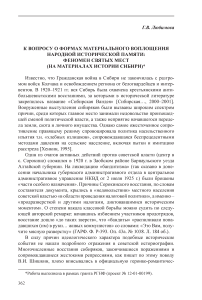К вопросу о формах материального воплощения народной исторической памяти: феномен святых мест (на материалах истории Сибири)
Автор: Любимова Г.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521890
IDR: 14521890
Текст статьи К вопросу о формах материального воплощения народной исторической памяти: феномен святых мест (на материалах истории Сибири)
Известно, что Гражданская война в Сибири не закончилась с разгромом войск Колчака и освобождением региона от белогвардейцев и интервентов. В 1920-1921 гг вся Сибирь была охвачена крестьянскими антибольшевистскими восстаниями, за которыми в исторической литературе закрепилось название «Сибирская Вандея» [Сибирская…, 2000–2001]. Вооруженные выступления сибиряков были вызваны широким спектром причин, среди которых главное место занимали недовольство произошедшей сменой политической власти, а также неприятие начавшегося передела земли, скота и личного имущества. Однако самое ожесточенное сопротивление правящему режиму спровоцировала политика насильственного изъятия т.н. «хлебных излишков», сопровождавшаяся беспрецедентными методами давления на сельское население, включая пытки и имитацию расстрела [Хенкин, 1995].
Один из очагов активных действий против советской власти (центр в с. Сорокино) сложился в 1920 г. в Заобском районе Барнаульского уезда Алтайской губернии. На ликвидацию «бандитизма» (так сказано в донесении начальника губернского административного отдела в центральное административное управление НКВД от 2 июля 1925 г.) были брошены «части особого назначения». Причины Сорокинского восстания, по словам составителя документа, крылись в «недовольствии» местного населения советской властью «в области проведения налоговой политики», а именно – «продразверсткой и другими налогами, диктовавшимися историческим моментом». О степени накала классовой борьбы можно судить по следующей авторской ремарке: начавшись избиением участников продотрядов, восстание дошло «до таких зверств», что «бандиты» «распиливали попадавшихся (им) в руки... живых коммунистов» со словами: «Это Вам, получите мясную разверстку» (ГАРФ. Ф. P-393. О п. 43а. № 1038. Л. 184 об. ) .
В силу причин идеологического характера подобные исторические события не нашли подробного отражения в советской историографии. Многочисленные восстания сибиряков, закончившиеся поражениями и сопровождавшиеся жестокими репрессиями, как пишет по этому поводу В.И. Шишкин, плохо вписывались в официальную героико-романтичес- кую концепцию Гражданской войны. Более того, в советское время сформировался идеологический стереотип, в соответствии с которым любая контрреволюционная акция рассматривалась как «черная», постыдная страница отечественной истории. Подобные факты следовало, как считалось, не изучать, а проклинать или предавать забвению [Шишкин, 1995].
Тем не менее, народная память о событиях Гражданской войны, «не вписавшихся» в официальный исторический дискурс, получила своеобразное преломление в традиционных религиозно-обрядовых практиках почитания святых мест. Сопоставление разноплановых источников позволило не только проследить историю одного из наиболее почитаемых мест Алтайского края, но и восстановить обстоятельства, при которых произошла его сакрализация.
Судя по тексту упомянутого документа, в период подавления Сорокин-ского восстания «были расстреляны граждане с. Сорочий Лог в числе около 12 человек». Трупы их сбросили «в овраг, где местные крестьяне сваливали вывозимый со дворов назем и всякий мусор». Впоследствии неподалеку от «могилы расстрелянных бандитов» «открылся» святой ключ, куда стало стекаться «огромное количество богомольцев», желавших получить исцеление от различных болезней и недугов. При этом размах самого явления не мог не вызвать озабоченности властей. К примеру, 17–19 июня 1925 г. (когда ожидался приезд архиерея «на освящение ключа») стечение паломников, как сказано в донесении, «достигло… более 2000 человек». Все это давало центральной и местной администрации основание «предполагать» в паломничестве «организованное начало» (ГАРФ. Ф. P-393. Оп. 43а. № 1038. Л. 182, 183, 184 об., 185 об.).
Выявленные сведения позволили предположить, что сохранению памяти о Сорокинском восстании способствовала характерная для степных и лесостепных районов Сибири народно-православная традиция почитания святых мест, прежде всего – водных источников, отмеченных в народных воззрениях символикой плодородящего и исцеляющего начала. Было установлено, что названная символика поддерживается бытующими вплоть до настоящего времени преданиями о т.н. «явленных» (всплывающих время от времени из родника) иконах («божественных ликах»), большая часть которых относится к богородичному типу [Любимова, 2006].
Проведенное исследование показало, что сакрализация места гибели участников восстания в Сорочьем Логу, по всей видимости, произошла в результате контаминации народной исторической памяти и нарративов о явлении божественных ликов в святой воде. Так, авторы книги по истории села пишут, что матери одного из расстрелянных, каждый день ходившей на место гибели сына, привиделся в ключевой воде лик, сообщивший ей о том, что все погибшие «признаны Богом невиновными мучениками», а сам родник – это «слезы матерей по невинно убиенным» [Строчков и др., 2001]. В документе из фондов НКВД говорится: «Родственники расстрелянных бандитов распространяют слухи (о том), что убитые… пострадали за православную веру, теперь они святые - их образы видели в святом ключе (ср.: «коммунисты убили… замучили (их), забросали назьмом». – Г.Л.), но Святая Богородица не дает им этого сделать. Она смыла с их лица грязь и дала нам святой ключ. Теперь они в святом раю, а мы, грешные, здесь мучимся». Отмечено также, что рассказы о явлении Богородицы или Иисуса Христа с погибшими окружают последних ореолом святости, сама же эта «нелепость» «переходит их уст в уста», распространяется «по всему району, городу Барнаулу, и выходит за пределы Алтайской губернии» (ГАРФ. Ф. P-393. Оп. 43а. № 1038. Л. 182, 185, 185 об.).
Исключительный интерес в этом отношении представляет старообрядческое сочинение «Повесть о святом ключе», в которое вошли рассказы «об известном алтайском источнике близ с. Сорочий Лог» (публикацию текста и комментариев к повести см. в кн.: [Духовная литература..., 1999]). Подтверждением сакрального статуса ключа стали зафиксированные в «Повести…» предания о регулярном явлении «божественных ликов», а также многочисленные рассказы о случаях чудесного исцеления (ср: «тако потече целебный источник воды, не глубок… но вельми прозрачен… И в воде видяхуся лики или образы Пресвятые Богородицы и святых угодников Божиих. И егда хотяше кто руками в воде взяти их, ничтоже обреташе») [Духовная литература…, 1999].
Побывавшая на святом ключе в 1962 г. черница Анна упоминает виденные ею в воде образы «Пресвятыя Богородицы со Превечным Младенцем, ангела хранителя, Иоанна Богослова и святителя Николы». В другом описании приводятся свидетельства «двух жен», согласно которым вода в ключе во время молитвы начинает «тревожиться и ходить кругами, и выкидывать пузырьки». Примечательно, что «божественные лики» в данном случае заменяются тщательно выписанными образами «погибших страдальцев». Ср.: «…помолившись, жены удостоились увидеть в воде три венца и в каждом по три человека… Сперва вышел один разноцветный радужный (венец), и в нем три человечка величиной 5 сант. в рубашке, в поясочке, в штанах босые... Чрез несколько минут вышел второй (венец)… (а потом) третий». «Тамошние жители этих страдальцев знают на имя», поскольку недалеко от ручья находятся их могилы, куда люди ходят молиться и поминать убитых [Духовная литература…, 1999].
Материальным воплощением памяти об исторических событиях в Сорочьем Логу стали культовые сооружения – деревянный сруб и часовня, возведенные крестьянами в 1924 г. на месте гибели повстанцев. Архивные документы констатируют, что местная ячейка, не получив соответствующих указаний, решила самостоятельно бороться с «религиозным дурманом» и «разрушила часовню», а «сруб деревянный над источником весенней водой унесло» (ГАРФ. Ф. P - 393. Оп. 43а. № 1038. Л . 185 об.).
Массовое паломничество к ключу, пик популярности которого пришелся на середину 1920-х гг., заставило власти предпринять ответные меры, направленные на десакрализацию почитаемого места. О них можно судить по тексту старообрядческой «Повести...», в которой говорится о неоднократных попытках «завалить источник навозом и гноем», забить воронку «бревнами и соломой» и даже отгонять верующих «насилием... казнь-ми… и заключением в темницу». Однако каждый раз за осквернением, как следует из повествования, происходило «восстановление святости» (когда вода пробивалась в другом месте) [Духовная литература…, 1999].
Согласно полевым наблюдениям, несколько лет назад в Сорочьем Логу появился женский скит, по инициативе Барнаульской епархии ведется строительство храма, разбит цветник. Приезжая из ближних и дальних мест в надежде получить исцеление, люди увозят с собой воду в пластиковых бутылках и глину с песком в больших стеклянных банках. Мониторинг современного состояния традиции подтвердил выявленную ранее тенденцию к «воцерковлению» водных источников, когда на смену стихийным народно-религиозным обрядовым практикам почитания святых мест приходят организованные формы религиозного паломничества и туризма (ПМА, 2012).