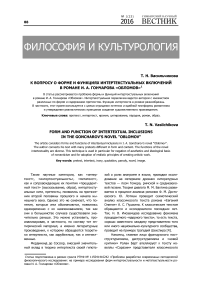К вопросу о форме и функциях интертекстуальных включений в романе И. А. Гончарова "Обломов"
Автор: Васильчикова Татьяна Николаевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 1 (23), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема формы и функций интертекстуальных включений в романе И. А. Гончарова «Обломов». Интертекстуальная перекличка ведется автором с множеством различных по форме и содержанию претекстов. Функции интертекста в романе разнообразны. В частности, этот прием используется с целью отрицания эстетики и идейной платформы романтизма и утверждения реалистических принципов создания художественного произведения.
Претекст, интертекст, ирония, цитирование, пародия, роман, образ
Короткий адрес: https://sciup.org/14114322
IDR: 14114322
Текст научной статьи К вопросу о форме и функциях интертекстуальных включений в романе И. А. Гончарова "Обломов"
Такие научные категории, как «интертекст», «интертекстуальность», «метатекст», как и сопровождающие их понятия «прецедентный текст» (высказывание, образ), интертекстуальные нити, претексты, появились на протяжении второй половины прошлого и начала нынешнего века. Однако это не означает, что понятия, которые ими обозначаются, появились одновременно с их наименованиями, так как они в большинстве случаев существовали значительно раньше. Это можно установить, проанализировав, в частности, по составу тот эмпирический материал, а именно литературные произведения, к которому обращаются теоретики интертекста, как зарубежные, так и отечественные.
Фердинанд де Соссюр, внесший значительный вклад в теорию интертекста своей гипоте- зой о роли анаграмм в языке, проводил исследование на материале древних литературных текстов — поэм Гомера, римской и средневековой поэзии. Теория диалога М. М. Бахтина развивается в процессе анализа романов Ф. М. Достоевского. Ю. Лотман проводит семиотический анализ классического текста романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. К классическим текстам обращаются и исследователи последних лет. Так, Н. В. Иноземцева исследование феномена прецедентного «ядерного текста», то есть текста, хорошо известного каждому представителю того или иного национально-культурного сообщества, проводит на примере трагедий Шекспира [4].
Наконец, главное лицо французского постструктурализма, деструктурализма и «новой критики» Ролан Барт апеллирует к тексту новеллы «Саразин» представителя классического
Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 115041410242 «Проблема разработки современных методологий филологического исследования: на примере исследования форм интертекстуальности и метатекстуальности романа И. А. Гончарова «Обломов».
реализма Оноре де Бальзака, а культуролог, философ Мишель Фуко, который его опередил и превзошел в степени эпатирования общепринятых представлений о языке и литературе, объявивший о «смерти субъекта» еще до бартовско-го объявления о «смерти автора», отрицающий объективность всего — книги, читателя, автора, в своем тотальном отрицании тоже опирается опять-таки на известные литературные памятники прошлого. В частности, он пишет:
«Ведь романы Стендаля или Достоевского не индивидуализируются в той же степени, что и романы, составляющие «Человеческую комедию», а те, в свою очередь, не различаются между собой в той же мере, что «Улисс» и «Одиссея» [9, с. 25].
Примечательно, что даже постструктуралисты и деконструктивисты провозглашают смерть субъекта, смерть автора, смерть литературы и смерть заодно и читателя только в результате предварительного размышления над очень значительными в смысловом и идейном своем содержании художественными текстами. Можно зайти с другой стороны и выразить это наблюдение иначе: никто из теоретиков интертекстуальности не обращается, например, к анализу романа Д. Джойса «Поминки по Финнегану», хотя именно он дает пример полного отсутствия смыслового, «интеллектуального» текста.
Есть все основания предположить, что интертекстуальность и метатекстуальность являются присущими словесному искусству признаками текста и как таковые сопровождали его всегда, а научное изучение этих свойств текста начато сравнительно недавно и продолжается по сегодняшний день. По заключению Ю. М. Лотмана, стремление к метатекстуальности является имманентным свойством текста. В свете сказанного обоснованно следует также ожидать того или иного по составу и сложности, но обязательного по факту наличия претекстов и интертекстуальных нитей, разнообразной формы цитирования «чужого текста» (цитат, аллюзий, реминисценций) в каждом полноценном классическом тексте, так как это одно из его свойств как именно текста. Затронув вопрос разнообразия возможных форм интертекстуальных включений, нельзя избежать главного в этом вопросе — их внутритекстовых функций, цели их применения тем или иным автором. Особую остроту вопрос интертекстуальности приобретает в так называемых «ядерных» прецедентных текстах, которые составляют как бы единое культурное поле, объединяющее представителей того или иного национально-культурного сообщества. К числу художественных текстов такого типа и значимости в отечественной литературе, без сомнения, относится роман И. А. Гончарова «Обломов». Здесь создан не только типический характер русского помещика «в типических обстоятельствах» русской реальности 50—60-х годов XIX века, но и выведен сам тип «русского человека», всем знакомый и узнаваемый каждым русским человеком и в наше время, независимо от его возраста, социального положения и того или иного отношения к данной модели. Имя героя стало нарицательным и стопроцентно легко опознаваемо любой русскоязычной аудиторией (старшеклассники, студенты, сотрудники), наряду с такими маркерами текста, как его название, имя автора, «образы» предметов, вещей героя («диван Обломова», «халат Обломова»).
С этим связан вопрос о формах и функциях интертекстуальных включений в тексте романа, если рассматривать его как прецедентный текст, которые достаточно многочисленны и разнообразны, что позволяет автору достичь в первую очередь именно указанной цели — представить тип русского человека. Помещение фигуры героя в широкий культурный контекст, составленный из различного рода интертекстуальных цитат, позволило выделить его «самость» (не случайно он постоянно настаивает на своей несхожести с «другим», вступая в диалог-спор с представлением о «человеке» и со своим слугой Захаром, и со своими посетителями в первой главе романа). Самыми различными по отношению к роману «Обломов» являются его многочисленные претексты, взятые из славянского фольклора, античной мифологии, мировой истории, европейской и отечественной литературы XVIII — первой четверти XIX века, церковно-славянской литературы. Авторская интенция также различна: цитирование подается не всегда в серьезном тоне. В ряде случаев, например, когда речь идет об отношении Гончарова к романтизму и романтике личностных отношений, это становится формой выражения авторской иронии. Один и тот же претекст в тексте романа может выполнять две или несколько функций. Так, полемика с романтизмом, которая ведется с помощью целого ряда претекстов, выполняет как функцию характеристики персонажей, так и обнаруживает мировоззренческую позицию и эстетическое кредо Гончарова-писателя.
На фоне наметившегося в русском культурном обществе 50-х годов XIX века иронического отношения к романтизму как эстетической сис- теме, а к романтическому типу отношений как к формам, уже изжившим себя, комический эффект вызывает изображение в романтическом антураже героя романа «Обломов», который простодушен до крайности и совсем не готов к подобной роли. При этом подлинным объектом осмеяния является не сам Обломов, который показан с мягкой иронией, а напыщенный слог и стиль романтизма. Так, рассказывая в первой книге романа о юности Обломова, о первых его шагах в Петербурге, о начале служебной карьеры, писатель иронизирует по поводу его любовных увлечений, которые носили исключительно романтический и платонический характер и, соответственно, никогда не имели реальных результатов. Герой «останавливался в самом начале и своей невинностью, простотой и чистотой не уступал любви какой-нибудь пансионерки на возрасте» [1, c. 49].
Пародией на романтические увлечения и неумеренные порывы страстей является дальнейшая характеристика женщин такого романтического типа. Их-то особенно избегает умеренный и здравомыслящий герой, которого «роковая любовь… пугает» [1, c. 49]. С этой целью автор применяет интертекстуальное включение, которое представляет собой по форме цитату из «чужого» текста, снабженную авторским комментарием:
«…он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником, уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты… Пуще всего он бегал тех бледных печальных дев, большею частию с черными глазами, в которых светятся «мучительные дни и неправедные ночи», дев, с неведомыми никому скорбями и радостями, с синевой под глазами…» [1, c. 50].
В данном случае, чтобы выразить неприятие романтизма как явления литературного и как манеры жить и чувствовать, совершенно простодушному Обломову не свойственной, автор и включает интертекстуальную связь в форме аллюзии по отношению к «чужому тексту» — стихотворению Н. Ф. Павлова «Романс» («Она безгрешных сновидений»). Строку из этого же стихотворения «гаснет вера в лучший край» Гончаров использует позже в романе «Обрыв» (ч. 1, гл. 13). Цитируемый романс на стихи Н. Ф. Павлова был написан не позднее 1856 года, то есть относится ко времени создания романа «Обломов». Романс, как и некоторые другие стихотворения этого поэта, принадлежавшего к романтическому направлению, был очень популярен. Полностью куплет романса звучит так:
Вглядись в пронзительные очи —
Не небом светятся они:
В них есть неправедные ночи,
В них есть мучительные дни… [7, с. 308].
Данная пародирующая «романтический» претекст интертекстуальная перекличка — не единственная в романе. Борьба с романтизмом ведется И. А. Гончаровым очень последовательно. В ряде случаев цитата дается без отсылки к конкретному тексту, если пародируется ставший шаблонным романтический оборот речи. Так, в ироническом выражении автора «но цвет жизни распустился и не дал плодов», отнесенном к его скромному и безыскусному герою, пародируется один из романтических штампов 20-х годов — «цвет жизни». В комментариях Л. С. Гейро утверждается, что исходным претекстом является романтическое стихотворение В. А. Жуковского «Теон и Эсхин»: «ближайшим образом толкование этой метафоры в тексте романа сливается со стихотворением В. А. Жуковского «Теон и Эсхин».
И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот —
Лишь сердце они изнурили;
Цвет жизни был сорван; увяла душа;
В ней скука сменила надежду… [2, с. 657].
Однако это мнение не бесспорно, так как романтический штамп вошел в жизнь и мог встречаться в различных текстах с различными оттенками смысла. Гончаров же использует его в пародийном ключе.
Эпизод «Сон Обломова», из которого, как из зерна, «пророс» весь роман, более всего наполнен аллюзиями и ироническими перекличками с теорией и художественной практикой романтической литературы. Пародийным по отношению к ней является уже начало «Сна Обломова»: «Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край!» [1, с. 79].
После такого восторженного вступления можно было бы ожидать соответствующего описания «чудес», но автор прибегает к прямому их опровержению. Романтические «красоты» устраняются намеренно:
«Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов — нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого» [1, с. 79].
По сути, здесь создается пародия на романтические шаблоны изображения пространственного мира как бесконечного, непознаваемого, грандиозного. Но «не таков мирный уголок, где вдруг очутился наш герой». Родина Обломова не такова, и он сам совсем не романтический герой. Опрокидывание романтических шаблонов уже было произведено в первом романе Гончарова «Обыкновенная история», где на примере Александра Адуева опровергаются традиционные романтические представления о герое как личности исключительного плана.
Следующей интертекстуальной нитью по отношению к романтической литературе является выборочная пародийная цитация из сцены II «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Каменный гость»: «ночь лимоном и лавром пахнет». У Гончарова создан парафраз этой стихотворной строки, которую он намеренно «переводит» в прозу в главе «Сон Обломова»: «Но лето, лето особенно упоительно в том краю. Там надо искать свежего, сухого воздуха, напоенного не лимоном и не лавром» [1, с. 80].
Следует согласиться с комментарием Л. С. Гей-ро: «Ироническое использование пушкинских слов — одно из проявлений борьбы Гончарова с романтизмом. В 1840-х годах, когда была написана и опубликована глава «Сон Обломова», Испания была модной темой в русской романтической поэзии и драматургии» [2, с. 659].
К творчеству А. С. Пушкина Гончаров вновь обращается в эпизоде «Сон Обломова», описывая такое астрономическое явление, как луна. Трудно сказать, намеренное или бессознательное, но пародирование романтизма, несомненно, присутствует в ироническом пассаже по поводу луны, которая для обломовцев и не луна даже, «а просто месяц».
«Бог знает, удовольствовался ли бы поэт или мечтатель природой мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну да слушать щелканье соловьев. Любят они луну-кокетку, которая бы наряжалась в палевые облака да сквозила таинственно через ветви деревьев или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим поклонникам… А в этом краю никто и не знал, что за луна такая — все называли ее месяцем. Она как-то добродушно во все глаза смотрела на деревни и поля и очень походила на медный вычищенный таз» [1, с. 89].
Пародирование романтизма, которому Пушкин уже отдал дань в своих романтических поэмах ко времени создания романа «Евгений Онегин», присутствует и в тексте романа «Евгений Онегин», в сцене, когда Онегин и Ленский возвращаются от Лариных при свете яркой луны. Луна, по романтической традиции, — покровитель влюбленных. В обоих случаях, как у Пушкина, так и у Гончарова, пародийное снижение романтического образа строится по одному принципу: снимается именно этот оттенок смысла: присутствие луны на небосклоне не идентифицируется больше с возвышенными любовными чувствами. У Пушкина образ луны включен в сниженной версии в портрет Ольги, который насмешливо рисует своему влюбленному другу Евгений: «Кругла, красна лицом она… как эта глупая луна на этом глупом небосклоне…». Таким образом, по отношению к роману «Обломов» текст Пушкина играет роль претекста. В эпизоде «Сон Обломова» также дается ироническая пародия на романтические чувства: «Напрасно поэт стал бы глядеть восторженными глазами на нее: она так же бы простодушно глядела и на поэта, как круглолицая деревенская красавица глядит в ответ на страстные и красноречивые взгляды городского волокиты» [1, с. 89].
Пародирование романтизма усиливает мысль И. А. Гончарова о том, что прекрасное может быть очень земным и реальным и изобразить его можно так же просто и реалистически. «Правильно и невозмутимо совершается годовой круг» на родине Обломова с ее непритязательной и реальной прелестью. Если свежий и сухой воздух и не напоен «лимоном и лавром», то пахнет он не менее хорошо: «просто запахом полыни, сосны и черемухи».
Другим претекстом, который использован автором с двойной целью — для создания художественного образа (Обломова, Захара) и для выражения своей эстетической позиции, творческих принципов, — послужили романы Вальтера Скотта, которые были настолько популярны в России, что возник даже литературоведческий термин «вальтерскоттовский роман» по отношению к отечественным историческим произведениям, созданным по этой модели. Ссылки на тексты романов В. Скотта в романе «Обломов» неоднократны и, как правило, даны в ироническом контексте, так как включены в общую полемику с романтизмом. Первая из них относится к роману В. Скотта «Ламмермурская невеста», с одним из героев которого — Калебом Бальдер-стоном, дворецким графа Равенсвуда, иронически сопоставляется слуга Обломова Захар:
«Захару было за пятьдесят лет. Он был уже не прямой потомок тех русских Калебов, рыцарей лакейской, без страха и упрека исполненных преданности к господам до самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков» [1, с. 56].
Образ Калеба играет роль архетипа по отношению к образу преданного слуги во многих более поздних произведениях других авторов. Предшественником Гончарова в этом смысле является А. С. Пушкин, который в повести «Капитанская дочка» вывел такой образ слуги Савельича, назвав его в повести «русским Калебом». К этому сравнению прибегает и И. С. Тургенев в конце 1860-х годов в повести «Бригадир». Различие между писателями — в отношении к архетипу, который задан образом идеального слуги В. Скотта. Если у Пушкина Савельич действительно близок к нему, то у Гончарова и у Тургенева архетип иронически обыгрывается. Но, опровергая заданную модель, Гончаров тем не менее показывает, что не образ плох, а идеал фальшив. Реалистический подход к пониманию характера человека и созданию образа в литературном произведении диктует Гончарову образ плута и лодыря Захара, который тем не менее — верный и преданный слуга, хотя и обкрадывающий по мелочам своего хозяина. Не идеален и хозяин. Пара «хозяин — слуга» существует в романе как именно пара дихотомически связанных двух людей. Каждый зависим от другого, и каждый не идеален, но полноценная жизнь у каждого — в составе такой пары. Таким образом, Гончаров вступает в полемику с романтическим представлением об идеале человека, и романы В. Скотта дают одну из таких возможностей. Можно выделить две точки зрения в идейном споре с романтизмом на примере романов В. Скотта: первая связана с общим представлением о возможностях и идеальном облике личности. В. Скотт, как это свойственно романтизму, признает идеальный образ человека, то есть возможность достижения этического максимума. В данном случае — полное самоотречение ради господина. Вторая точка спора — является ли Захар преданным слугой, хотя, как будет показано, идеальным он не является. Этот спор ведется с конечной целью — выразить собственные реалистические творческие принципы и представление о невозможности нравственного абсолюта.
«Этот рыцарь был со страхом и упреком… Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращенность нравов» [1, с. 56].
Здесь появляется еще одна ироническая интертекстуальная отсылка: «рыцарем без страха и упрека» был прозван храбрый и великодушный французский воин Пьер де Террайль Баярд (1476—1524). Образ Захара же построен на опровержении всех «абсолютных» добродетелей, воплощенных в романтическом образе «Калеба»:
«Захар «в редкий день в чем-нибудь не солжет» своему барину; Слуга старого времени удерживал барина от расточительности и невоздержания, а Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет»; «Прежний слуга был целомудрен, как евнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства»; «Тот крепче сундука сбережет барские деньги, а Захар норовит усчитать у барина… гривенник и непременно присвоит себе лежащую на столе медную гривну». «Старинный Калеб умрет скорей, как отлично выдрессированная охотничья собака над съестным, которое ему поручат, нежели тронет, а этот так и выглядывает, как бы съесть и выпить и то, чего не поручают» [1, с. 58].
К этому добавляются описания его беспредельной лени, неуклюжести, любви к сплетням. Казалось бы, суть образа Захара как раз и заключается в том, что он «не Калеб». Однако же суть архетипа — беспредельная преданность хозяину — и в этом реалистически правдивом образе ленивого и нерадивого «неидеального» слуги все-таки выражена. Построенный на отрицании «традиционных добродетелей» идеального слуги, образ слуги у Гончарова опровергает архетип, но архетип помогает создать этот новый реалистический образ, который без него был бы невозможен. Совершается культурная перекличка во времени:
«Несмотря на все это, то есть что Захар любил выпить, посплетничать, брал у Обломова пятаки и гривны, ломал и бил разные вещи и ленился, выходило, что он был глубоко преданный своему барину слуга… он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая это подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград» [1, с. 58].
Таким образом, И. А. Гончаров с помощью интертекстуальных цитат и аллюзий выражает в романе «Обломов» реалистические принципы создания характера. Человек реальный не может быть только положительным или только отрицательным, а соткан из различных противоположных качеств, в нем соединенных и прихотливо себя проявляющих. Принцип диалектики характера, диалектической взаимосвязи противоположных черт и качеств использован при создании образов романа «Обломов». Интертекстуальная перекличка позволяет при этом вступить в полемику с другой, уже изживающей себя эстетической системой (романтизмом) в поисках собственной.
Гончаров обнаруживает мастерство изображения будней жизни, ее обычного будничного течения. Это присутствует и в описании Об- ломовки, и в характерах ее обитателей, как барина, так и слуги. Создается определенная философия жизни — «негероической»:
«Они, живучи вдвоем, надоели друг другу. Короткое, ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому, ни другому даром: много надо с той и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтоб, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками» (с. 59).
Автор «Обломова» последовательно отвергает романтизм как эстетическую систему и метод в искусстве, время которого уже прошло. Отрицая эстетические принципы романтизма — романтические «красоты» в реальной местности, которая красива, но иначе; поэтику романтизма с ее обязательным элементом грандиозного, таинственного, загадочного, романтического героя с его гипертрофированностью чувств и порывов, — Гончаров мягко и остроумно осмеивает предшествующую реалистическому искусству традицию и тем самым эту традицию разрушает. Но это не разрушение ради уничтожения, а разрушение ради созидания. В результате защищаются другие ценности: непритязательная реальная красота окружающего мира; право художника изображать предмет просто, как он его видит, а не как ему предписывает установленный канон, образы обычных реальных людей, содержащие тем не менее ответ на вопрос Обломова: «Где же человек?». Тем самым Гончаров отстаивает принципы реалистического видения мира и человека и право изображения увиденного в искусстве еще до создания формулы Н. Г. Чернышевского «прекрасное есть жизнь».
Важно отметить, что эти простые и подлинные ценности имеют национально-историческую окрашенность: русский писатель сумел выразить объективное представление и о русском национальном характере, и о России. Для того чтобы отрицать так убедительно, высмеивать так метко, как это делает И. А. Гончаров, нужно было хорошо знать предмет отрицания, видеть ясно цель отрицания и владеть приемами отрицания. Гончаров отдал дань увлечению романтизмом, прекрасно был знаком с романтическим творчеством В. Скотта и отечественных романтиков. Пародирование романтизма, выполненное с помощью интертекстуальных включений, касается не только вычурных и уже устаревших ко времени создания романа «Обломов» литературных приемов изображения мира и человека. При их ироническом отстранении автор приоткрывает подлинную реальную красоту мира и человека, что, по его убеждению, и должно стать главным объектом реалистического искусства.
-
1. Гончаров И. А. Обломов : роман : в 4 ч. Л. : Наука, Ленинградское отд-ние, 1987. 694 с.
-
2. Гейро Л. С. Примечания // Гончаров И. А. Обломов : роман : в 4 ч. Л. : Наука, Ленинградское отд-ние, 1987. С. 647—680.
-
3. Денисова Г. Д. В мире интертекста: язык, память, перевод. М. : Азбуковник, 2003. 297 с.
-
4. Иноземцева Н. В. Прецедентный и интертекст как маркеры англоязычного научно-методического дискурса (на материале англоязычных статей по методической проблематике). URL: www.rusnauka.com/23_WP_2009/Philologia/50932 . doc.htm (дата обращения: 05.02.2016).
-
5. Николина Н. А. Филологический анализ текста : учеб. пособие. М. : Учеб. центр «Академия», 2003. 77 с.
-
6. Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: путеводитель по тексту. М. : МГУ, 2010. 224 с. (Сер. Школа вдумчивого читателя).
-
7. Павлов Н. Ф. Романс (Она безгрешных сновидений…) // Павлов Н. Ф. Повести и стихи. М., 1957.
-
8. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М. : Academia, 2000. 128 с.
-
9. Фуко Мишель. Единицы дискурса // Археология знания / пер. с фр. С. Митиной, Д. Стасова. Киев : Ника-центр, 1996. (Cер. OPERA ARARTA. Вып. I).
Список литературы К вопросу о форме и функциях интертекстуальных включений в романе И. А. Гончарова "Обломов"
- Гончаров И. А. Обломов: роман: в 4 ч. Л.: Наука, Ленинградское отд-ние, 1987. 694 с.
- Гейро Л. С. Примечания//Гончаров И. А. Обломов: роман: в 4 ч. Л.: Наука, Ленинградское отд-ние, 1987. С. 647-680.
- Денисова Г. Д. В мире интертекста: язык, память, перевод. М.: Азбуковник, 2003. 297 с.
- Иноземцева Н. В. Прецедентный и интертекст как маркеры англоязычного научно-методического дискурса (на материале англоязычных статей по методической проблематике). URL: www.rusnauka.conn/23_WP_2009/Philologia/50932. doc.htm (дата обращения: 05.02.2016).
- Николина Н. А. Филологический анализ текста: учеб. пособие. М.: Учеб. центр «Академия», 2003. 77 с.
- Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: путеводитель по тексту. М.: МГУ, 2010. 224 с. (Сер. Школа вдумчивого читателя).
- Павлов Н. Ф. Романс (Она безгрешных сновидений..)//Павлов Н. Ф. Повести и стихи. М., 1957.
- Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Academia, 2000. 128 с.
- Фуко Мишель. Единицы дискурса//Археология знания/пер. с фр. С. Митиной, Д. Стасова. Киев: Ника-центр, 1996. (Сер. OPERA ARARTA. Вып. I).