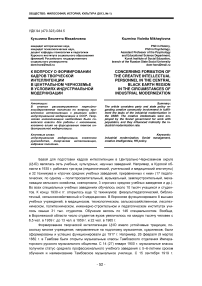К вопросу о формировании кадров творческой интеллигенции в Центральном Черноземье в условиях индустриальной модернизации
Автор: Кузьмина Виолетта Михайловна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается партийно-государственная политика по вопросу привлечения интеллигенции к решению задач индустриальной модернизации в СССР. Творческая интеллигенция необходима была советской власти для работы с населением, косвенно влияя на форсирование темпов индустриальной модернизации.
Индустриальная модернизация, советское руководство, творческая интеллигенция, кадровая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/14940538
IDR: 14940538 | УДК: 94
Текст научной статьи К вопросу о формировании кадров творческой интеллигенции в Центральном Черноземье в условиях индустриальной модернизации
Базой для подготовки кадров интеллигенции в Центрально-Черноземном округе (ЦЧО) являлась сеть учебных, культурных, научных заведений. Например, в Курской области в 1935 г. работало три вуза (педагогический, учительский и медицинский институты) и 32 техникума и «прочих средних учебных заведений, приравненных к ним» (17 педагогических, по одному – политпросветительный, музыкальный, землеустроительный, механизации сельского хозяйства, совторговли, 3 «прочих» средних учебных заведения и др.). Во всех специальных учебных заведениях обучалось около 10 тысяч учащихся и студентов. К концу 1930-х гг. открылось еще 12 техникумов: физкультпедагогический, библиотечный, сельскохозяйственный и 9 медицинских. В Воронеже функционировало 8 высших учебных учреждений; в медицинском, технологическом, сельскохозяйственном, лесотехническом, политехническом, инженерно-строительном и педагогическом институтах училось свыше 31 тыс. студентов. Обучение велось по 146 специальностям. Вообще, в Воронежской области число студентов вузов увеличилось на каждую тысячу человек с 6,5 чел. в 1939 г. до 13 чел. в 1959 г. и 22 чел. в 1965 г.
Формирование творческой интеллигенции ЦЧО имело устойчивые традиции, поскольку многие учреждения, направленные на подготовку музыкантов, художников, были сформированы и успешно функционировали до 1917 г. Например, 26 февраля (9 марта) 1882 г. в Тамбове были открыты музыкальные классы Тамбовского отделения Императорского русского музыкального общества. С 14 (27) января 1900 г. музыкальные классы получили статус среднего профессионального учебного заведения с 5–6-летним сроком обучения и наименование Тамбовское музыкальное училище. С 15 сентября 1919 г.
в Тамбове действовал музыкальный вуз с задачами руководства учебной, кадровой, методической, концертной, просветительской деятельностью Тамбовского музыкального округа (в округ входили Тамбовская, Воронежская, Курская, Орловская, Брянская губернии) [1]. Заведующим округом был назначен директор консерватории С.М. Стариков. В 1922 г. с ликвидацией музыкальных округов Тамбовская государственная консерватория преобразована в музыкальный техникум с музыкальной школой при нем. В 1936 г. постановлением Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР от 1 сентября музыкальному техникуму возвращено наименование музыкальное училище.
Подписанный В.И. Лениным декрет «О переходе Петроградской и Московской консерваторий в ведение народного комиссариата просвещения» явился фундаментом совершенно новой для России государственной системы музыкального образования. С 1918 по 1922 гг. Воронежское музыкальное училище называлось народной консерваторией. Доступность получения музыкального образования для широких народных масс вызвала приток талантливой молодежи. В 1919 г. число студентов училища достигло 346 человек. Жизнь в стенах учебного заведения кипела, как и во всей стране. Слушателями концертных мероприятий становятся, помимо представителей интеллигенции, рабочие, крестьяне, красноармейцы. Открываются новые специальности: народных инструментов, арфы, а также теоретико-композиторский отдел. Разворачивается работа оркестрового и хорового классов. В предвоенный период в Воронежском музыкальном техникуме (так называлось училище с 1922 по 1936 гг.) и с музыкальной школе при нем обучалось 640 человек и работало свыше 60 преподавателей, причем 26 из них были выпускниками родного учебного заведения [2, c. 7].
Тамбовский колледж искусств также активно участвовал в подготовке кадров творческой интеллигенции. В ноябре 1918 г. были созданы курсы общего музыкального образования при Тамбовском музыкальном училище. У истоков их становления стояли корифеи музыкального образования – М.Н. Реентович, А.Ф. Устинович, Л.Н. Елагина [4]. В разные годы менялось название созданного ими учебного заведения: единая трудовая школа при консерватории (1919), трехгодичная школа при музыкальном техникуме (1922), курсы общего музыкального образования (1926–1931), музыкальные рабочие курсы (1931-1957), вечерняя музыкальная школа (с 1957). С 1968 г. школа стала самостоятельный заведением. В 1972 г., с момента открытия дневного отделения, стала именоваться Детской музыкальной школой № 4.
Аналогичные колледжи культуры в разное время были созданы в Курске (1973), в Орле (1968) и других городах Центрального Черноземья.
Несмотря на значительный рост числа образовательных учреждений и высокие темпы формирования новой интеллигенции, архивные документы 1920-х гг. свидетельствуют о слабой культурно-просветительской работе среди формирующейся интеллигенции, и ЦК ВКП(б) постановил «предложить Курскому обкому усилить повседневное, систематическое руководство делом партийной пропаганды, ликвидировать самотек в постановке индивидуального политического самообразования, организовав изучение истории и теории большевистской партии всеми партийными и советскими кадрами, а также другими слоями советской интеллигенции» [5, с. 131].
Еще на Двенадцатом съезде РКП(б) были определены критерии подбора работников культуры: «Необходимо подбирать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы как свои родные и умеющие проводить их в жизнь» [6, с. 17]. Особенно четко и ясно был поставлен вопрос о руководстве кадрами представителей творческой интеллигенции во время «культурной революции». Открыто звучал вопрос стыковки культуры и управления в социалистическом обществе, один из аспектов которого связан с задачей управления людьми, их поведением, делами и поступками, направления деятельности интеллигенции соответственно принципам, нормам и законам социализма, требованиям и целям общества.
На регулярных совещаниях отдела пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) с 1934 по 1936 гг. отмечалась нерешенность проблемы подготовки кадров как для городских учреждений культуры, так и для районных. Из докладной записки районов ВКП(б) о состоянии культурно-массовой работы на селе: «Волоконовский район: кадрами не занимаются», «Долгоруковский район: нет квалифицированных работников», «Золотухинский район: имеющиеся кадры бездействуют», «Медвенский район: организация культмассовой работы со стороны РОНО как главного проводника культуры очень слаба» [7, с. 14].
Видя сложившуюся ситуацию, «секретарь обкома ВКП(б) Путнин» (в данном деле инициалы Путнина не указаны. - В.К. ) провел в конце 1936 г. собрание инспекторов полит-просветработы, заведующих домами соцкультуры, читальнями и представителями института повышения квалификации. На собрании, в очередной раз заслушав отчеты о работе с кадрами культпросветучреждений, «заведующий областным отделом народного образования Завыленков» сделал вывод о том, что «кадры практически не подготовлены для работы в культурном просвещении деревни» [8, с. 15].
Причины неподготовленности кадров указывали сами районные инспекторы агит-пропотдела. Они заключались в следующем: назначение квалифицированных работников культуры председателями колхозов и реализация потенциала более подготовленных работников культуры в партийных структурах; высокая текучесть кадров; низкая зарплата, ее частая задержка или работа за трудодни; отсутствие специализированных курсов для переподготовки политпросветработников и работников культуры; отсутствие контроля со стороны вышестоящих партийных органов, а также неправильное комплектование, беспрерывная реорганизация, недисциплинированность слушателей, массовый срыв занятий, отсутствие системной работы с пропагандистами, низкое качество учебы, бессистемность занятий.
Были созданы специальные курсы: от краткосрочных (7–10-дневных) до полуторамесячных по изучению истории ВКП(б), основ ленинизма, истмата, диамата, политэкономии, экономической политики, текущей политики.
Таким образом, все работники культуры были охвачены политической учебой в самых различных формах. Партийное руководство рекомендовало проводить индивидуальные беседы секретарей райкомов и партийных бюро, собирать совещания по обмену опытом товарищей, самостоятельно изучающих основы марксизма-ленинизма, обсуждать на партийных собраниях, как идет политическое самообразование членов и кандидатов партии, а также простых граждан.
Но все это не отвечало духовным потребностям работников культуры, поскольку политическая учеба имела обязательный характер, а также использовались назидательные формы обучения, занятия проводились в виде пассивного прослушивания. Хотя еще в 1923 г. на Двенадцатом съезде РКП(б) было признано, что «старый тип агитации имеет тенденцию к отмиранию по мере того, как советский аппарат постепенно становится на ноги» [9, c. 465]. Для того чтобы ликвидировать формализм при работе с кадрами творческой интеллигенции, ЦК ВКП(б) рекомендовал создать кружки по изучению отдельных произведений классиков марксизма-ленинизма, разъяснять неясные вопросы, организовать при комитетах актив пропагандистов и агитаторов.
Широкое развертывание политической и идеологической работы в плане организации многочисленных курсов по изучению истории ВКП(б), истмата, диамата, политэкономии, а также предоставление возможности профессионального творческого роста для культпросветработников было необходимо. В результате проведенной курскими парткомами работы произошли положительные изменения по подготовке кадров советской интеллигенции, что было отмечено в Постановлении ЦК ВКП(б) «О постановке пропаганды марксизма-ленинизма в Белорусской ССР, Орловской и Курской областях» от 16 августа 1939 г.
На деле процесс управления культурой и формирования кадров творческой интеллигенции нашел отражение в командных методах руководства (запретительстве и пр.). Ориентация не на зрителя, а на начальство, на директивы и постановления центра было основной чертой в культурном строительстве в 1930-е гг.
Ссылки:
-
1. Страницы истории Тамбовского края / науч. ред. Л.Г. Протасов. Воронеж, 1986. 223 с.
-
2. Воронежское музыкальное училище им. Ростроповичей : 100 лет / ред.-сост. А.Н. Акиньшин, И.Т. Пустовалов. Воронеж, 2004. 16 с.
-
3. Из воспоминаний С.Н. Романовского « Моя жизнь в искусстве (почти по Станиславскому)» / записала Н. Синявская // Курская правда. 2004. № 2 (23519). 9 янв.
-
4. Тамбовский колледж искусств [Электронный ресурс] // URL: http://www.tambov.net/education/college_of_ art.html (дата обращения: 6.03.2013).
-
5. Постановление ЦК ВКП(б) о постановке пропаганды марксизма-ленинизма в Белорусской ССР, Орловской и Курской областях от 16 августа 1939 г. // КПСС в резолюциях. Т. 7. М., 1985. С. 131.
-
6. Пашков А.С. , Иванкина Т.В., Магницкая Е.В. Кадровая политика и право. М., 1989. С. 17.
-
7. ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 612. Л. 14, 15, 22, 25.
-
8. Там же.
-
9. Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 года // КПСС в резолюциях. Т. 2. М., 1985. С. 465.