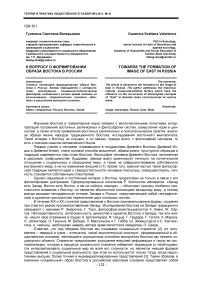К вопросу о формировании образа Востока в России
Автор: Гузенина Светлана Валерьевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена формированию образа Востока в России. Автор обращается к историческим, культурным, социально-политическим факторам, оказавшим в разное время влияние на возникновение стереотипного понятия «Восток» в российском массовом сознании.
Образ, стереотип, Россия, восток, запад
Короткий адрес: https://sciup.org/14933096
IDR: 14933096
Текст научной статьи К вопросу о формировании образа Востока в России
Изучение Востока в гуманитарной науке связано с многочисленными попытками интерпретаций положений восточных религиозных и философских систем, осмысления норм и ценностей, а также итогов применения восточных религиозных и психотехнических практик, анализа образа жизни народов традиционного Востока, исследования восточного менталитета. Такой интерес к Востоку не случаен, и он связан, прежде всего, с философией человека, то есть с поиском смысла человеческого бытия.
Первые учения о человеке, появившиеся в государствах Древнего Востока (Древней Индии и Древнем Китае), стали основой способа мышления, образа жизни, культурных образцов и традиций современных нам стран Востока. Философия человека Древнего Востока, заложенная в даосизме, конфуцианстве, буддизме, прежде всего ориентирует личность на почтительное отношение к социальному и природному миру, а также на совершенствование собственного внутреннего мира, а не на изменение внешнего [1]. Кроме того, важной частью такой философской традиции является идея о самодостаточности человека (поскольку, совершенствуясь, личность становится собственным спасителем).
Однако серьезный и постоянный интерес к Востоку продиктован не только в связи с его философскими доктринами. Сформулированный писателем Р. Киплингом императив: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда», – объясняет причину особенно пристального внимания к Востоку: он является абсолютной оппозицией западному миру, а потому всегда вызывал неподдельный интерес Запада и России, представляющей собой географическое и духовное пространство пересечения двух полярных систем.
В течение XIX и XX столетий представления о Востоке принимали разные формы, сохраняя при этом его резкое противопоставление Западу. Исследования Востока на Западе традиционно связывают с именами Р. Эмерсона, Г. Торо, философов-экзистенциалистов А. Камю, Ж. Сартра. Нетождественность, антагональность ценностей и идеалов Востока и Запада, так или иначе, нашли свое отражение в трудах А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Г. Гердера, Г. Гегеля, К. Маркса, О. Шпенглера, Э. Трельча, М. Вебера, Л. Массиньона и Г. Гибба, Ш. Эйзенштадта и С. Хантингтона, и, наконец, необходимо назвать автора ориенталистской парадигмы Э. Саида.
Отметим, что под образом Востока мы понимаем социальный стереотип [2] (от греч. stereos – твердый и typos – отпечаток), некий мыслительный конструкт, сформированный в общественном сознании, являющийся упрощенным способом восприятия Востока как некоего социального объекта. Стереотип предполагает упрощение внешней информации и такую ее систематизацию, которая в процессе социального познания избавляет индивидов от необходимости интерпретировать социальный мир во всей его сложности, но является низшей формой представлений о социальной реальности, при этом он используется только тогда, когда недостижимы высшие, более точные и индивидуализированные представления [3]. Таким образом, в значении «социальный» образ Востока в российском массовом сознании представляет собой - 112 - этнокультурный гетеростереотип, и потому, как все стереотипы, обладает свойствами устойчивости (стабильности), согласованности и носит эмоционально-оценочный характер.
Восток для России изначально исторически связан с монголо-татарским нашествием, поскольку под влиянием этого фактора формируется и первый собирательный образ Востока. Это положение иллюстрируют многочисленные русские поговорки («Незваный гость хуже татарина», «В татарских очах нет проку», «Неволей только татары берут» ) , былины, сказки. Позднее, с развитием мореплавания и восточной торговли в Московском государстве стереотипный образ Востока стал видоизменяться, олицетворяться с Индией, Турцией, Персией и постепенно дополняться новыми элементами: роскоши, древности, неги, страсти, особой красоты, магической тайны.
Особую роль в симпатии к Востоку и неприятию Запада Россией сыграло падение Константинополя в 1453 г. Появившаяся концепция «Москва – третий Рим» закрепила в русской культуре идею изоляции православного Востока и отвержения «поврежденного» Запада. Исследователь Л. Черная указывает, что к началу XVII в. в русском религиозном сознании мир был поделен на две части — Восток и Запад, причем Восток приравнивался «всей Вселенной», а Запад был лишь оплотом чуждой веры, местом вокруг Рима, рядом с папой. Русские при этом себя идентифицировали с Востоком [4]. Возможно, именно эта самоидентификация и повлекла за собой традицию восприятия и изучения России (до петровских преобразований, после них, и даже на современном этапе) в Европе как восточной страны.
Стереотипный образ Востока во многом обязан своему формированию и практическому востоковедению, обеспечивающему интересы внешней торговли, частью которого была и миссионерская деятельность православной церкви на Востоке. С эпохи Петра I во многие страны Востока были организованы экспедиции (Семен Маленький в Персии (1695), Э. Избрант в Китае (1692–1695), П. Толстой в Османской империи (1702–1714), И. Лежайский в Монголии (1707) и Китае (1714–1716).
Неподдельный интерес к самобытности Востока и непознанной ментальности людей, населяющих самые разные страны восточного мира, раскрываются в наследии российских ученых императорской Академии наук, которая организовывала экспедиции в Сибирь, Поволжье, Кавказ и другие регионы империи. Кавказ с конца ХVIII в. во многом стал олицетворением Востока для России, благодаря вниманию к его природному миру, прошлому, быту, нравам и традициям многих русских историков, этнографов, географов, естествоиспытателей.
Образ таинственного, мистического, дикого, стремящегося к свободе, живущего не разумом, но страстью, воинственного Востока создан в произведениях А. Пушкина («Подражание Корану», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник» «Кавказ надо мною…», «Руслан и Людмила», «Таврическая звезда», «Погасло дневное светило») и М. Лермонтова («Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри», «Демон», «Три пальмы», «Ашик-Кериб», «Герой нашего времени», «Фаталист») [5]. Представление о Востоке как особом духовном материке характерно для философских работ Е. Блаватской, В. Соловьева, Н. Рериха, Н. Бердяева, К. Аксакова, творчества художников самых различных жанров и направлений начала ХХ в. (постановок балета С. Дягилева, поэзии К. Бальмонта, М. Волошина, С. Есенина, Н. Гумилева, З. Гиппиус и др.).
В общественной жизни отмежевание России от Запада оформляется в концепции славянофилов, отстаивающих для страны собственный, не похожий на западный путь социальноэкономического развития. Логически это сближает Россию с восточным миром, при этом, как отмечает востоковед Л. Васильев, даже октябрьская революция – следствие схожести России и Востока: «Марксистский коммунизм с его командно-административно-редистрибутивной системой - копия традиционного Востока. … к 1917 г. Россия добилась на пути вестернизации не слишком многого, причем именно это печальное обстоятельство помогло марксистскому социализму укрепиться в стране» [6].
В 20-е гг. образ Востока был связан, прежде всего, с борьбой новой власти за присоединение к стране республик Закавказья, Средней Азии и формирование особой не только социально-политической, но и идеологической зоны – «советского Востока». В этот период особым объектом внимания становится образ женщины Востока. Теме ее бесправия часто уделяла внимание в своих статьях А. Коллонтай, считая это направление одной из важнейших задач работы советских женсоветов.
В сталинское время и вплоть до 80-х гг. ХХ в. в российском востоковедении господствующим направлением становится марксизм-ленинизм. Объектом исследований стали, в первую очередь, классы и классовая борьба афро-азиатских обществ, а основные теоретические выводы в новом востоковедении делались не профессиональными учеными, а политическими деятелями, а потому образ Востока был предельно идеологизирован и размыт. СССР традици- онно помогал дружественным странам Африки, Азии и Востока. Кроме того, даже ближайшие к Советскому Союзу европейские страны разделились на два лагеря - Восточную и Западную Европу, при этом восточные страны являлись членами Варшавского договора, а потому объявлялись дружественными советскому народу. По этой причине категория «Восток» воспринималась всегда позитивно, поскольку несла смысловую нагрузку «свои», тогда как «чужой» Запад прочно олицетворялся с холодной войной, гонкой вооружения, противостоянием СССР и США.
Современный подход к образу Востока в России чрезвычайно сложно определить однозначно. Формирование такого образа в массовом сознании уже не слишком зависит от художественного или поэтического творчества или научных разработок, поскольку на сегодняшний день образ Востока в России связан объективно с рядом факторов, важнейшими из которых являются: территория нашей страны и этнический состав населения современной России, куда входят многочисленные народности, этнические группы и общности, имеющие прямое отношение к стереотипам «Кавказ», «восточные народы» и «лица кавказской национальности»; опыт войн и военных действий России в Афганистане, Чечне, Дагестане; актуальность и сохраняющаяся опасность террористической угрозы; отношение к исламскому фундаментализму; события на Ближнем Востоке.
Мы признаем и тот факт, что сегодня в образе Востока, скажем, москвичей, где многие приезжие из Средней Азии находят себе работу, и жителей провинциальных российских городов, где такого притока из бывших союзных республик не наблюдается, есть существенная разница. Верным, скорее, будет вывод о заметной трансформации стереотипа в отношении Востока. Для такой трансформации есть несколько причин - пришло понимание многомерности и поликультурности мира, необходимости поиска диалога, а не углубления противоречий и конфронтации. Кроме того, в массовом сознании россиян «Восток» стал не так однороден, но многолик благодаря возможности свободно пересекать границы и открыто общаться (как через Интернет, так и лицом-к-лицу, на самых разных уровнях): учиться, дружить, любить, создавать семьи. Коммуникация соответственно определяет и искреннее желание узнавать другую культуру глубже: знакомиться с традициями, читать первоисточники (причем и на языке оригинала), отмечать праздники, посещать мероприятия (в том числе религиозного характера) и так далее.
Мы полагаем, что и в дальнейшем образ Востока будет поэтапно трансформироваться, однако хотел бы познакомить с некоторыми довольно любопытными результатами небольшого эмпирического исследования по данной теме, которое лишь подтверждает свойство устойчивости стереотипов. В ассоциативном опросе об образе Востока, проведенном автором в г. Тамбове в феврале 2011 г., принимали участие студенты 2 курса: Академии гуманитарного и социального образования, Института математики, физики и информатики, Института филологии, Института физической культуры и спорта Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (опрошено 360 респондентов, выборка квотная по полу и возрасту).
Несмотря на вышеперечисленные современные факторы, большинство которых, по мысли автора, должны оказывать прямое отрицательное влияние на формирование образа Востока в массовом сознании современного российского студенчества, 93 % респондентов, вне зависимости от пола и будущей специальности отметили, что образ Востока ассоциируется у них с понятиями «духовность» и «реальность» .
Студенты отмечают, что их волнуют события, происходящие на ближнем Востоке (88%), и, хотя они признают, что Восток и Запад - два полярных мира (97 %), однако считают, что противоречия Востока и Запада - давняя проблема и информация об обострившемся противостоянии между Востоком и Западом создается искусственно в СМИ (73 %). Студенты ТГУ полагают, что вполне вероятен брачный союз между представителями западной и восточной культур (64 %), они не испытывают неприязни к представителям другой этнической группы (89 %) и осуждают деятельность экстремистских организаций (96 %).
Юноши отметили, что образ «восточной женщины» ассоциируется у них с такими привлекательными качествами, как « верность » ( 99 % ), «покорность» (56%), « ориентированность на домашний очаг » ( 89 % ) и «желание иметь детей» (74 %). Девушкам импонируют такие ценности образа «восточного мужчины», как « ориентация на создание семьи » ( 88 % ), « любовь к детям » ( 89 % ), «верность своему слову, идее, решению, замыслу, друзьям» (68 %). Интересно, что приоритет семьи отмечен в качестве привлекательной ценности и юношами, и девушками, принимавшими участие в опросе. Не означает ли это, что западная система современных ориентиров (карьерный рост, стремление к успеху, материальному благополучию) хотя и принимается (а скорее, демонстрируется) российской молодежью как престижная, нужная и перспективная, но при внимательном изучении - оказывается чуждой и не соответствующей духовным потребностям молодого поколения в России?
В заключение хотелось бы заметить, что, как ни покажется парадоксальным, но, учитывая практическую нерешенность выдвигаемых государством задач в отношении семьи и рождаемости в нашей стране, вполне вероятно, что стратегические цели демографической политики в России могут быть достигнуты при ее сфокусированности не на эталонах эгалитаризма и семейного права (примером может служить заключение брачного контракта или оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый отцу), а на типичные восточные идеалы коллективизма, то есть приоритеты семейного единства, поддержки, взаимовыручки и духовной близости.
Ссылки и примечания:
-
1. Философия: учебник / под ред. проф. В.Н. Лавриненко. М., 2004.
-
2. С точки зрения физиологии стереотип представляет собой форму целостной, системной деятельности мозга, проявляющуюся в виде фиксированного порядка системы условно-рефлекторных реакций в типовых ситуациях. См.: Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. М., 2010.
-
3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Практикум. М., 2006.
-
4. Черная Л. Образ «запада» в русской культуре ХI– XVII вв. // Россия и Запад: Диалог или столкновение культур: сборник статей. М., 2000. С. 31–46.
-
5. Лотман Ю.М. Проблема востока и запада в творчестве позднего Лермонтова // Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 5–22.
-
6. Васильев Л.С. Восток и запад в истории (основные параметры проблематики) // Альтернативные пути к цивилизации: коллективная монография. М., 2000. С. 96–114.
Список литературы К вопросу о формировании образа Востока в России
- Философия: учебник/под ред. проф. В.Н. Лавриненко. М., 2004.
- Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. М., 2010.
- Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Практикум. М., 2006.
- Черная Л. Образ «запада» в русской культуре ХI-XVII вв.//Россия и Запад: Диалог или столкновение культур: сборник статей. М., 2000. С. 31 -46.
- Лотман Ю.М. Проблема востока и запада в творчестве позднего Лермонтова//Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 5-22.
- Васильев Л.С. Восток и запад в истории (основные параметры проблематики)//Альтернативные пути к цивилизации: коллективная монография. М., 2000. С. 96-114.