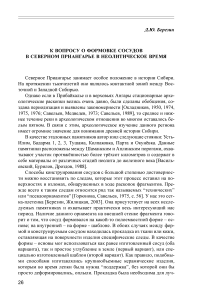К вопросу о формовке сосудов в Северном Приангарье в неолитическое время
Автор: Березин Д.Ю.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология каменного века палеоэкология
Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521192
IDR: 14521192
Текст статьи К вопросу о формовке сосудов в Северном Приангарье в неолитическое время
Северное Приангарье занимает особое положение в истории Сибири. На протяжении тысячелетий оно являлось контактной зоной между Восточной и Западной Сибирью.
Однако если в Прибайкалье и в верховьях Ангары стационарные археологические раскопки велись очень давно, были сделаны обобщения, создана периодизация и выявлены закономерности [Окладников, 1950, 1974, 1975, 1976; Савельев, Медведев, 1973; Савельев, 1989], то среднее и нижнее течение реки в археологическом отношении во многом оставалось белым пятном. В связи с этим, археологическое изучение данного региона имеет огромное значение для понимания древней истории Сибири.
В качестве эталонных памятников автор взял следующие стоянки: Усть-Илим, Бадарма 1, 2, 3, Тушама, Колпаковка, Парта и Окунёвка. Данные памятники расположены между Шаманским и Аплинским порогами, охватывают участок протяжённостью более трёхсот километров и содержат в себе материалы от различных стадий неолита до железного века [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988].
Способы конструирования сосудов с большой степенью достоверности можно восстановить по следам, которые этот процесс оставил на поверхностях и изломах, обнаруженных в ходе раскопок фрагментов. Прежде всего к таким следам относится ряд так называемых “технических” или “псевдоорнаментов” [Горюнова, Савельев, 1975, с. 56]. У нас это сетка-плетенка [Березин, Жилицкая, 2003]. Она присутствует на всех исследуемых памятниках и охватывает практически весь интересующий нас период. Наличие данного орнамента на внешней стенке фрагмента говорит о том, что сосуд формовался на какой-то полоемкостной форме – основе; на внутренней – на форме - шаблоне. В обоих случаях между формой и конструируемым сосудом находилась прокладка из ткани или кожи, оставляющая на поверхности изделия специфические следы. В качестве формы – основы мог использоваться как ранее изготовленный сосуд (оба варианта), так и простое углубление в земле (первый вариант), или специально изготовленный шаблон (второй вариант). Как правило, подобными способами изготавлялись крупнообъемные керамические изделия, которым во время лепки была нужна “поддержка”, без которой они бы просто деформировались, оплыли. Прокладка была необходима для луч- шего, без повреждений, отделения законченного сосуда от формы, особенно если формой служил другой сосуд.
Процесс создания керамических изделий на интересующих нас памятниках сводился к конструированию дна и стенок, то есть полого тела, путем последовательного наращивания лент или жгутов на какую-либо из описанных выше основ, спиральным или кольцевым налепом. “Полым телом принято называть фигуру, образующуюся после завершения строительства днища и стенок будущего сосуда” [Бобринский, 1978, с. 154]. То есть, в нашем случае, полое тело практически и было собственно сосудом, так как сосуды с горлышками в данный период не встречались [Горюнова, Савельев, 1975].
Признаком спирального налепа является заметный наклон линии спая между лентами по отношению к основанию изделия [Мыльникова, 1999, с. 37], при кольцевом налепе линии спая, так же как жгуты или ленты, идут параллельно горизонтальной оси сосуда, то есть из экстремальной точки дна на воображаемую плоскость, образованную каждым витком, можно опустить перпендикуляр.
К сожалению, у фрагментов с орнаментом сетка-плетенка эти критерии работают только при достаточно крупных размерах обломков, когда по их конфигурации можно четко определить вертикальную ось, или когда это значительный кусок венчика, и можно ориентироваться по его верхней поверхности. Сказанное выше относится и к неорнаментированной керамике.
С керамикой, украшенной другими видами орнамента работать легче, так как мы знаем, что оттиски орнаментального штампа, за крайне редким исключением, опоясывали тулово сосуда параллельными друг другу рядами, и были также параллельны верхней поверхности венчика [Березин, 1985].
Больше половины обнаруженных на исследуемых поселениях обломков керамики относились к неорнаментированным или были с техническим орнаментом сетка-плетенка. Поэтому не удивительно, что подвергнуть анализу, с достаточной степенью достоверности, оказалось возможным только небольшое количество фрагментов. Все они, если следовать вышеизложенным критериям, говорят о том, что на исследуемых памятниках бытовала кольцевая техника ведения налепа.
Благодаря работе Глушкова И. Г. у нас есть вполне четкое представление о том что есть «жгут», а что «лента» [Глушков, 1996, с. 36]. Анализ имеющегося керамического материала показал, что в интересующее нас время на привлеченных к исследованию памятниках, сосуды лепились при помощи лент. Ленты были узкими, от 1,1 до 2,5 см. На некоторых образцах очень хорошо видно, что крепились они стык в стык. Последнее легко устанавливается благодаря небрежному затиранию спаев на внутренней стороне сосуда.
К сожалению, донных частей с экстремальной точкой и «археологически» целых сосудов было обнаружено крайне мало, но изучение доступных образцов говорило о том, что форма начина была донно-емкостной, [Бобринский, 1978, с. 114 ], то есть сосуд начинали изготовлять с днища. Начин представлял из себя скрученную спирально ленту, в конце своего хода скошенную в торце, так что получалась своеобразная “лепешка”. На эту “лепешку” указанным способом наращивались концентрическими кругами ленты, пока полое тело полностью не сформировывалось. Начин сильно приминался, толщина собственно днища была несколько (1–3 мм) тоньше, чем толщина стенок в медиальной зоне [Березин, 1985, с. 32–35].
Малое количество донных и придонных фрагментов не позволяет однозначно утверждать, что вышеописанная техника использовалась всегда и повсеместно, но обломков, указывающих на другие способы лепки, вообще не было обнаружено. Думается, на этих основаниях можно предполагать, что вышеописанный способ формовки сосудов был распространен на всех интересующих нас поселениях.
После того как сосуд приобретал окончательную форму, его поверхности подвергались дополнительной обработке, заглаживанию Для этой цели использовались смоченные водой щепочки, пучки травы, просто пальцы рук. Хотя к этому времени формовочная масса уже частично утрачивала свою пластичность из-за подсыхания, эти “орудия” оставляли на поверхностях сосуда характерные следы. Так, например, образовался технический орнамент, выделенный нами как “прочерченный”. Хотя, вполне возможно, что на некоторых фрагментах подобные следы образовались в результате выбивки обмотанной каким-то рельефным материалом дощечкой – колотушкой, но незначительные размеры обломков не позволяют говорить об этом с уверенностью.
Обработка поверхностей смоченными в воде руками или куском кожи характерна образованием тонкой пленки высохшего эмульсионного слоя глины, который можно принять за ангоб - слой, преднамеренно нанесенный на изделие [Мыльникова, 1999, с. 39]. В данном случае мы наблюдаем полное отсутствие “орнамента”, то есть неорнаментированную керамику. Этот вывод косвенно подтверждается тем, что у неорнаментированной керамики довольно часто наблюдается частичное отслоение тонких прослоек от наружной поверхности фрагментов .
О том как создавались фигурные формы, можно только строить предположения. Обломки венчиков позволяют определить профиль изделия и способ крепления надстройки к тулову сосуда. Скорее всего, надстройка и полое тело конструировались отдельно друг от друга, а потом соединялись. Об этом говорит внутренний скос на верхнем крае верхней ленты полого тела и внешний – на нижнем крае нижней ленты надстройки, в то время как остальные ленты были скреплены между собой стык в стык. Кроме того, в месте соединения надстройки и полого тела проходил налепной валик. Валик примазывался к тулову сосуда, по нижней и верхней граням шли прерывистые оттиски какого-либо орнаментального штампа или защипы пальцами. Таким образом гончар, очевидно, хотел укрепить наибо- лее уязвимое место сосуда. Валики, а так же нанесения на них оттисков, преследовали двойную цель. “Эстетическая направленность несомненна, что и позволяет рассматривать все это в качестве элементов декора. Но важно подчеркнуть и утилитарную цель. С помощью таких вдавлений довольно просто решалась проблема крепления налепного валика к стенке”, [Дьякова, 1984, с. 47, 48] а сами валики надежно фиксировали место крепления (соединения) полого тела и надстройки.
Способы дополнительной обработки поверхностей у фигурных форм были аналогичны вышеописанным.
Подводя итог, можно сказать следующее.
-
1. Своеобразие неолитических культур Северного Приангарья прежде всего обусловлено их географическим положением
-
2. Сосуды изготовлялись на формах-шаблонах путём последовательного наращивания лент кольцевым способом.
-
3. Неолитические сосуды Северного Приангарья изготовлялись из местного сырья.
-
4. Неолитические культуры Северного Приангарья развивались в контакте с одновременными культурами Среднего Енисея, Прибайкалья и, возможно, Забайкалья, хотя и имели при этом ряд черт, присущих только им.