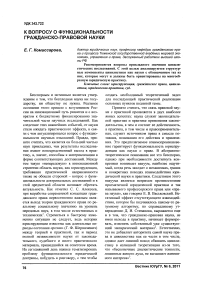К вопросу о функциональности гражданско-правовой науки
Автор: Комиссарова Елена Генриховна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы гражданского права
Статья в выпуске: 6 (223), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы прикладного значения цивилистических исследований. С этой целью анализируются структурные компоненты цивилистики как науки с обозначением тех из них, которые могут и должны быть ориентированы на многообразную юридическую практику.
Юриспруденция, гражданское право, цивилистика, юридическая практика, суд
Короткий адрес: https://sciup.org/147149675
IDR: 147149675 | УДК: 342.722
Текст научной статьи К вопросу о функциональности гражданско-правовой науки
Бесспорным и истинным является утверждение о том, что бесплодная наука ни государству, ни обществу не нужна. Реальное осознание этого пришло с вступлением России на инновационный путь развития и с возвратом к бюджетному финансированию значительной части научных исследований. Как следствие этих важнейших событий, от науки стали ожидать практического эффекта, в связи с чем актуализировался вопрос о функциональности научных изысканий. Правда, принято считать, что касается он большей частью наук прикладных, чьи результаты исследования имеют непосредственный выход в практику, а, значит, способны к материализации в форме соответствующих достижений. Между тем такую «непередовую» в инновационной стратегии область науки, как юриспруденция, требования практической направленности также не обошли стороной - вопрос о функциональности доктринальных достижений и в этой предметной области начинает обретать актуальность. Как отметил С. С. Алексеев, при выработке современной концепции гражданского права первостепенно важным является выход теории гражданского права по реальному социальному значению на уровень передовых наук, в том числе естественных и технических1. Стремиться к быстрому изменению ситуации не следует, ведь истории юриспруденции известны как длительные периоды состояния «розни» (Г. Ф. Шершеневич) между теорией и практикой, так и период полной независимости науки от законодательного, судебного и иного практического материала, пришедшийся на советское время. На сегодняшний день важнее тематизировать проблему функциональности юридической доктрины, побудить к разговору, с тем чтобы создать необходимый теоретический задел для последующей практической реализации основных пунктов поднятой темы.
Принято считать, что связь правовой науки с практикой проявляется в двух наиболее явных аспектах: наука служит законодательной практике и практике применения законодательства, в чем и состоит ее действенность, а практика, в том числе и правоприменительная, служит источником права в смысле познания, понимания его действия и применения. Это предполагаемое взаимопроникновение гарантирует функциональность юриспруденции как науки о праве. В абстрактнотеоретическом понимании все это бесспорно, однако при необходимости достигнуть конкретики возникает вакуум, наиболее ощутимый, когда речь заходит о механизмах, гранях и конкретных поводах взаимодействия юридической науки и практики. Следствием этого вакуума является незримое противостояние прагматичной юридической практики и так называемого профессорского права или «права науки», как говорил Е. В. Васьковский. Негативный эффект отсутствующего взаимодействия, которое бы подчинялось какому-то разумному алгоритму, по справедливому утверждению Д. И. Степанова, выражается еще и в том, что гражданско-правовая наука, не имея выхода в практику, начинает формировать, изменять собственный уже существующий эмпирический материал2. Естественно, это не добавляет авторитета самой науке права и цивилистике как ее части в том числе, однако дает лишний повод обвинить цивилистику в излишней теоретизации из-за того, что «бесконечные диалектические тонкости, лишенные живого духа, не вызывают жизненного интереса»3.
В современном понимании любая социальная наука - это деятельность особого рода, имеющая собственные цели и методы их достижения. Но наука - явление многоаспектное. В первую очередь она представлена сообществом ученых, совокупностью различных научных и научно-образовательных учреждений, а также структурами научного обслуживания. В другом аспекте - это процесс (научная деятельность) со всей его творческой лабораторией, где есть естественная оторванность от жизни и ее ежедневных процессов, бесстрастность, логические формулы, доступные далеко не каждому, а потому не способные быть предметом всеобщего интереса. В третьем аспекте наука - это результат в виде научных знаний, существующих в идеальной форме. Естественна неразрывная связь всех указанных аспектов, их взаимопроникновение и взаимозависимость. Однако для рассуждений о функциональности «вычленим» один, именуемый научным результатом. Применительно к юриспруденции этот результат всегда выражается в форме нового научного знания о праве и образующих его правовых явлений.
Известно, что процесс получения новых знаний, как и степень их практического применения, в разных научных областях неодинаковы. Со времен СССР этот факт предопределил неофициальное деление всех наук на науки теоретические, прикладные и фундаментальные, при этом к прикладным наукам (разработкам) принято относить такие виды исследований, которые непосредственно обслуживают практику. Элементы этого деления есть и в юриспруденции. Так, например, отраслевые юридические науки принято считать теоретическими, а такие науки, как криминалистика, судебная бухгалтерия, правда, весьма небесспорно4, считаются прикладными. Однако критерии деления неустойчивые в силу естественных особенностей правовой науки, а потому мало что дают самой юриспруденции, где трудность срабатывания цепочки «теория - практика» в одинаковой степени затрагивает все ее области.
Во времена СССР весь мир науки во всем его многообразии также был дифференцирован на естественные, технические и общественные отрасли научных знаний, представленные в общеизвестной классификации академика Б. М. Кедрова, проведенной им в 1968 году5. Действует она и поныне. Экономическая и юридическая науки относятся к сфере наук общественных, которые в свою очередь подразделяются на социальноэкономические и гуманитарные. Науки этого блока в гносеологическом плане традиционно считаются науками «слабой версии», нежели науки двух других (естественного и технического) блоков, что связано со слабостью отдельных методов гуманитарных наук (в частности, функциональных) и чрезвычайной сложностью их объектов в силу сугубо идеального характера, а это предопределяет невозможность прямого и непосредственного использования результатов в практической деятельности. Так, применительно к юриспруденции факт их получения - это в первую очередь повод для постановки новых задач в законодательной сфере. Но поскольку Россия была и продолжает оставаться страной, которая не имеет проработанного механизма накопления, учета и реализации доктринальных достижений в области права, этот промежуточный этап - от получения новых знаний до их реализации - с точки зрения организационно-правовой остается безликим и в общем-то неизвестным ни представителям науки, ни самому законодателю. Результат известен и он в том, что в повседневной жизни юридическая наука чаще всего идет вслед за законом, а не впереди него, что особенно опасно при разработке и принятии актов комплексного законодательства. Безусловно, нельзя считать нормой то существующее сегодня положение, при котором, как выразился В. П. Мозолин, принятие закона выступает «в виде эксперимента по созданию новых норм права, необходимых обществу, а Федеральное Собрание Российской Федерации - своего рода юридической лабораторией по проведению указанных экспериментов»6. Естественным и соответствующим качественному нормотворческому процессу является то положение, при котором сила научно-правовой мысли направляется на создание, последующее совершенствование и изменение законодательства. Немногочисленные, но яркие примеры этого в нашей далекой и близкой истории уже есть. Так, в начале 1862 года Александр II потребовал, чтобы при разработке судебной реформы были учтены те главные начала, несомненное достоинство которых признано в настоящее время наукой и опытом европейских государств7. Роль российских реформ, последовавших после отмены на Руси крепостного права, общеизвестна, но гораздо менее известен тот факт, что новое законодательство, принятое в процессе осуществления судебной реформы 1864 года, явилось сильнейшим толчком к развитию российской юриспруденции. Она, по словам Г. Тольберга, «с непривычной для нее чуткостью отозвалась на это обновление законодательного материала, несмелыми, но усердными руками распластала его на своем операционном столе и дружными усилиями обеспечила себе на многие десятилетия живую и плодотворную работу»8. Весь порядок осуществления судебной реформы заключал в себе призыв к активизации деятельности представителей юридической науки, которая уже к тому времени была озабочена поиском «посредствующих звеньев между теоретическими задачами правоведения и практическими потребностями современной гражданской жизни». Особо надлежит отметить тот факт, что в процессе осуществления судебной реформы за юридической наукой было признано право «руководить» деятельностью законодателя. Современным и не менее ярким примером является научное участие в предстоящем совершенствовании действующего Гражданского кодекса РФ. Первые ориентиры, связанные с системными изменениями ГК РФ, были сформированы изначально в проекте Концепции развития гражданского законодательства. Проект предметно и активно обсуждался представителями юридической науки. Часть высказанных замечаний была учтена разработчиками проекта и вошла уже в текст Концепции, которая была принята 7 октября 2009 г. Советом по развитию и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ. Тем самым законотворческим намерениям в области гражданско-правового регулирования, не без участия ученых, придан статус документа, обеспечивающего согласованную деятельность по подготовке необходимых гражданско-правовых законов, а также подлежащих разработке на их основе подзаконных актов.
Цель всякой научной деятельности в юриспруденции состоит в описании тех или иных общественных явлений, их систематизации, каталогизации, а также в объяснении соответствующих явлений через их причинное соотношение и связь (Б. А. Кистяковский, Г. Ф. Шершеневич). Не зря термин «юриспруденция» (правоведение) в своем переводе имеет два значения: благоразумие и предвидение. Это же назначение обременяет и циви-листическую науку, чье место в теоретической юриспруденции по праву считается цен тральным, а авторитет, знания и усилия ее представителей считаются наиболее востребованными в практике.
Цивилистика сформировалась в связи с необходимостью освоения такого явления действительности, как гражданское право, чью историю принято отсчитывать с середины XIX века. Но сначала была практика, с которой начиналась вся юриспруденция. Таково было порождение «римского праворазвития» (И. А. Покровский). Позднее юриспруденция вышла из стадии чисто практической и посвятила себя теоретической разработке права, оставаясь однако при этом «соратником» практики. Постепенно, по мере возрастающего общения с другими науками, юриспруденция скоро обрела свою цену, а юридическая практика свою. В основе этого лежали в первую очередь предпосылки объективного характера, основанные на специфике научной деятельности, занятой производством научного знания.
Отношение к юриспруденции в разные периоды истории менялось в зависимости от тех исследовательских приемов, которые она брала себе на вооружение. Но несмотря на все свои последующие метаморфозы и периодически изменяющееся отношение к науке, юриспруденция все же оставалась наукой тех сил, которые «порождают» право и составляющие его явления, объясняют право, помогают его систематизировать, обобщать, анализировать и совершенствовать. Вопрос же об алгоритме таких действий, как и о балансе теоретического и практического в юриспруденции, стал вопросом историческим и отчасти риторическим, в то время как верных и точных слов о связи теоретической юриспруденции с практической сказано немало. Их смысловое наполнение в общем-то однона-правлено. Так, в свое время К. Ф. Пухта утверждал, что «юриспруденция бы отрешилась от своего существа, если бы она упустила из виду постоянное, непосредственное влияние на жизнь»9. И сегодня не новы утверждения о том, что «теоретические разработки останутся умозрительными конструкциями и построениями, если не будут использованы в практическом применении»10, так как «идеи, не имеющие выхода в практику, никому не нужны»11. Все эти высказывания, безусловно, актуальные и значимые, пока не обеспечили ясного понимания тех механизмов, которые бы содействовали взаимодействию науки и практики.
Как утверждал родоначальник российской цивилистики Д. И. Мейер, «в науке гражданского права надлежит различать исторический, догматический и практический элементы». Под практическим ученый имел в виду точку соприкосновения права с действительной жизнью12.
Взгляды о двухуровневое™ науки уже не раз высказывались в философской и исторической литературе. Так, И. Кант и Ф. Гегель выдвигали понятия «право философское» (право продвинутых профессоров или право научное) и «право прикладное». В XVII веке Ф. Бекон подверг острой критике попытки ограничить науку «плодоносным знанием», имея под ним в виду знание прикладное, в ущерб знанию фундаментальному - «светоносному». Г. Кельзен в своей концепции «чистой теории права» также различал «науку строгую», не имеющую ничего общего с реальными процессами жизни, и ту, которая носит прикладной характер. Отечественный ученый С. В. Пахман говорил о науке «в собственном смысле слова», раскрывающей внутреннюю область права, и науке «бытовой», изучающей внешнюю, жизненную сторону права13.
Остановка мысли автора на приведенных выше взглядах о внутренней структуре науки необходима для того, чтобы ответить на вопрос: всегда ли теория обязана задаваться практическими целями?
Задача теоретической цивилистики в ее мировоззренческом (светоносном) значении состоит в исследовании внутренней природы гражданского права и выдаче своих результатов в логических конструкциях юридических понятий, имея в виду выяснение внутреннего, логического между ними соотношения. Это тот необходимый инструментарий, с помощью которого расширяются уже достигнутые пределы научного познания в цивилистике, совершается восхождение от незнания к знанию, идет тот самый мировоззренческий процесс, ради которого в обществе изначально возникла наука как одно из социальных явлений. В этом смысле познание идет не за счет привлечения жизненных факторов извне, а за счет абстрагирования от них. Здесь властвуют научные понятия, которым очень немногие ученые посвятили свои труды, но без которых, например, в цивилистике невозможно было бы создание тех предельных понятий (например, «юридическое лицо»), которые в неизменном виде кроссируются на другие об ласти регулирования. Рецепиентом такого знания выступает научное сообщество, а потому этот пласт науки реализуется главным образом через печатные издания, когда печатное слово выступает емким и логичным выражением научной мысли через соответствующие понятия. И вряд ли правомерными могут быть утверждения о том, что этот «слой» науки должен быть тесно связан с практикой, несмотря на всю тонкость той стенки, которая разграничивает истинно научную лабораторию и бытийную основу права.
Новое научное знание или есть или нет, оно, как правило, цельное. Поэтому не столь правомерны попытки расчленения полученного в юриспруденции знания на знание теоретическое и знание практическое. Между тем понятие «практическая цивилистика» уже бытует в научном и практическом обороте14, нуждаясь в соответствующем толковании. Пока же в «оборотном» ракурсе употребления оно означает опыт соответствующего представителя юридической профессии, связанного с тем или иным видом практики.
Современная юридическая практика получила значительное развитие в самых ее разнообразных формах в виде практики законотворчества, адвокатской и нотариальной практики, образовательной деятельности, направленной на «умопостижение» права, практики правореализации за счет действий управомоченных лиц, а также практики судебной. В идеале каждый вид практики должен быть «опекаем» наукой, будь то, как уже отмечалось выше, разработка законопроектов, догматический анализ действующих норм права, комментарии к правовым актам, обобщения или исследования практики. Однако без преувеличения можно сказать, что абсолютное большинство видов юридической практики «равнодушно» к теоретической науке. Наука идет своим путем, а практика своим, и пути эти пересекаются крайне неохотно, так как критерии «взаимного интереса» очень тусклые. Множество проблем сегодня испытывает судебная практика, без решения которых ее эффективность ставится под сомнение. В их числе - много раз озвученная проблема глубокого обобщения практики судов в целях уяснения позиций по спорным или противоречивым, не урегулированным законодателем вопросам, ее систематизация, анализ, доступность через создание базы данных. Пока в этой области лишь существуют традиции вы- работки разъяснений и благие пожелания, в то время как нужны усилия научного сообщества, которое может и должно обеспечить судебную практику работающей методологией ее обобщения.
Ситуация отдаленности науки от практики, к сожалению, уже проникла и в вузовское обучение. Эффект этого процесса в самом образовательном пространстве уже слишком заметен: он отнюдь не исчерпывается преобладанием практической направленности в преподавании и отсутствием внимания к его теоретическим аспектам с изменением эталона педагогического поведения, ориентированного на законоведение, а не формирование полноценного юридического мировоззрения. Проблема шире. Она в том, что уже на стадии обучения праву у будущих юристов формируется убеждение о том, что юридическая наука как таковая не нужна, что наука и практика -это не пересекающиеся явления, и каждое из них живет само по себе.
Верное понимание структурных особенностей гражданско-правовой науки позволит сохранить ее истинно мировоззренческое назначение. Афиширование же ее практической значимости не позволит склониться в пользу того тезиса, что наука - это «служанка практики».
-
1 Алексеев С. С. О концепции гражданского права // Цивилистическая практика. 2007. № 3 (24). С. 117.
-
2 Степанов С. А. Блеск и нищета пандектистики (о традициях и нетрадициях русского гражданского права) // Проблемы теории гражданского права. Вып. 2. М., 2006. С. 151.
-
3 Прокровский И. А. История римского права. М., 2004. С. 284.
-
4 См., например: Колдин В. Я. Криминалистика: теоретическая наука или прикладная методология // Вестник МГУ. Серия «Право». 2000. № 4. С. 18.
-
5 Кедров Б. М. Классификация наук. Кн. 1-3. М., 1961— 1985.
-
6 Мозолин В. П. Развитие гражданского законодательства на современном этапе (дискуссионные проблемы) И Журнал российского права. 2005. № 7. С. 45.
-
7 Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989. С. 95, 97.
-
8 Судебная реформа / под ред. Н. В Давыдова и Н. Н. Полянского. М., 1915. С. 355.
-
9 Цит. по: Исследование А. Стоянова. Методы разработки положительного права и общественное значение юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. Харьков, 1862. С. 4.
-
10 Мурзин Д. В. Вводный очерк к журналу «Цивилистическая практика». 2007. № 3 (24). С. 8.
-
11 Фогельсон Ю. Б. Избранные вопросы общей теории обязательств: курс лекций. М., 2001. С. 14.
-
12 Мейер Д. И. Русское гражданское право. С. 51.
-
13 Пахман С. В. О современном движении в науке права // Вестник гражданского права. 2008. № 3. Т. 8. С. 200.
-
14 Скловский К. И. Гражданский спор: практическая цивилистика. М., 2003.
Список литературы К вопросу о функциональности гражданско-правовой науки
- Алексеев С. С. О концепции гражданского права//Цивилистическая практика. 2007. № 3 (24). С. 117.
- Степанов С. А. Блеск и нищета пандектистики (о традициях и нетрадициях русского гражданского права)//Проблемы теории гражданского права. Вып. 2. М., 2006. С. 151.
- Прокровский И. А. История римского права. М., 2004. С. 284.
- Колдин В. Я. Криминалистика: теоретическая наука или прикладная методология//Вестник МГУ. Серия «Право». 2000. № 4. С. 18.
- Кедров Б. М. Классификация наук. Кн. 1-3. М., 1961-1985.
- Мозолин В. П. Развитие гражданского законодательства на современном этапе (дискуссионные проблемы)//Журнал российского права. 2005. № 7. С. 45.
- Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989. С. 95, 97.
- Судебная реформа/под ред. Н. В Давыдова и H. Н. Полянского. М., 1915. С. 355.
- Исследование А. Стоянова. Методы разработки положительного права и общественное значение юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. Харьков, 1862. С. 4.
- Мурзин Д. В. Вводный очерк к журналу «Цивилистическая практика». 2007. № 3 (24). С. 8.
- Фогельсон Ю. Б. Избранные вопросы общей теории обязательств: курс лекций. М., 2001. С. 14.
- Мейер Д. И. Русское гражданское право. С. 51.
- Пахман С. В. О современном движении в науке права//Вестник гражданского права. 2008. № 3. Т. 8. С. 200.
- Скловский К. И. Гражданский спор: практическая цивилистика. М., 2003.