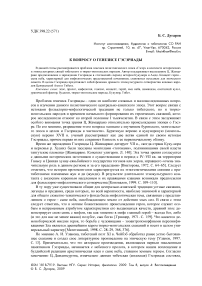К вопросу о генезисе Гэсэриады
Автор: Дугаров Баир Сономович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается проблема генезиса полиэтнического эпоса «Гэсэр» в контексте исторических и этнокультурных связей тибетского и тюрко-монгольских народов. Автор поддерживает высказанное Ц. Жамцарано предположение о зарождении Гэсэриады в «тогонский» период истории Кукунора и Амдо. Концепт героя - сына неба, характерный для мифологических представлений кочевников, становится исходным для эпического сюжета. В целом Гэсэриада представляет собой феномен древнего этнокультурного сотворчества кочевых народов Центральной Азии и Тибета.
Эпос, пролог, мифология, генезис, концепт, герой, сын неба, шаманизм, охотничий культ, уранический фактор, буддизм, тюрко-монгольские народы, кукунор, тибет
Короткий адрес: https://sciup.org/14737117
IDR: 14737117 | УДК: 398.22
Текст научной статьи К вопросу о генезисе Гэсэриады
Проблема генезиса Гэсэриады – один из наиболее сложных и малоисследованных вопросов в изучении данного полиэтнического центрально-азиатского эпоса. Этот вопрос связан с истоками фольклорно-мифологической традиции не только тибетского, но и тюркомонгольских народов и временем начального формирования их героических сказаний, которое исследователи относят ко второй половине I тысячелетия. В связи с этим заслуживает особого внимания точка зрения Ц. Жамцарано относительно происхождения эпопеи о Гэсэ-ре. По его мнению, разрешение этого вопроса «связано с изучением бурятского, монгольского эпоса в целом и Гэсэриады в частности». Бурятскую версию и кукунорскую (монгольскую) версию XVII в. ученый рассматривает как две ветви единой по своим истокам Гэсэриады, причем первая из них сохраняет близость к ее первоначальному облику.
Время же зарождения Гэсэриады Ц. Жамцарано датирует VII в., «когда страна Куку-нора и верховья р. Хуанхэ были заселены монголами «тогонами», подчинившими своей власти тангутские племена» [Жамцарано. Конспект улигеров. Л. 140]. Эта точка зрения согласуется с данными исторических источников о существовании в период с IV–VII вв. на территории Ганьсу и Цинхая хунну-сяньбийского государства тогонов или хоров, игравшего «очень значительную роль в данном регионе и за его пределами» [Викторова, 1972. С. 64–65]. Следует отметить, что история протомонголов характеризуется их этногенетическими связями с пра-тибетскими племенами жун и ди (жунди). В результате длительного этнокультурного контакта с амдоским коренным населением и их правящими кланами возникали предпосылки для фольклорно-мифологического сотворчества [Коновалов, 1999. С. 109–110].
В ту пору уже существовали общие для центрально-азиатской традиции устные сказания, легенды и предания, среди которых, по всей вероятности, наиболее значимой и характерной для общего сюжетно-тематического фонда была мифологическая тема, связанная с представлением о герое – сыне неба, освобождающем землю от действия злых сил. В связи с этим следует отметить, что в мотиве божественного происхождения героя, которое служит особым и непременным атрибутом характеристики его выдающихся качеств, древний эпос демонстрирует свою связь с мифом, так как «именно в мифе главный герой – всегда бог, либо (и это для нас не менее важно) полубог, сын бога» [Гринцер, 1971. С. 159]. Что касается де-моноборческой миссии героя, то борьба с чудовищами – зооантропоморфными персонификациями Зла является древнейшим ядром тюрко-монгольских сказаний и носит в целом универсальный характер [Мелетинский, 1998. С. 28–29, 368, 376].
По мнению А. И. Уланова, тибетский поэт XI в. Чойбэб обработал ранее устно бытовавшее сказание и создал свое литературное произведение на эпическую тему [Уланов, 1997. С. 13]. Примечательно, что это авторское произведение, являющееся первым письменным памятником Гэсэриады, начинается с небесного пролога, в котором нашла воплощение в буддийской редакции архетипическая идея о сыне неба, ставшим земным героем. Согласно замечанию Ц. Дамдинсурэна, изначально данная тибетская (амдоская) Гэсэриада состояла,
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 4: Востоковедение © Б. С. Дугаров, 2009
скорее всего, только из двух глав (пролога и войны с шарайголами). Затем эти главы развивались в монгольской среде, и вокруг них произошла циклизация монгольского эпоса о Гэсэ-ре, в частности одиннадцати глав, которые не встречаются в Тибете и являются сугубо монгольскими по своему происхождению [Дамдинсурэн, 1957. С. 164].
Относительно же генезиса тибетской Гэсэриады и ее пролога особый интерес представляет мнение Ю. Н. Рериха о многих мотивах, которые были заимствованы из нетибетских источников, под которыми, вероятно, подразумевались и тюрко-монгольские сюжеты о герое-правителе небесного происхождения. По данным ученого, территория Северо-Восточного Тибета с древних времен служила своего рода убежищем для кочевых племен, обретших новую родину в предгорьях Гималаев в стороне от неспокойного степного пояса Центральной Азии. Пришельцы приносили с собой свои племенные сказания и песни, постепенно включавшиеся в эпос тибетских племен, – эпос о Кэсаре, могучем царе-воителе из Линга [Рерих, 1999. С. 59].
Ю. Н. Рерих пишет, что тибетская традиция сохранила память еще о «другом Кэсаре», легендарном вожде племен Центральной Азии, являвшемся предводителем врагов Тибета, для которого он был как «бешеный конь». В то же время он причисляется к тетраде великих царей мира, и его локализация связана с северной стороной, под созвездием Большой Медведицы. В отличие от трех других царей: китайского – Владыки мудрости (восток), индийского – Владыки религии (юг), иранского – Владыки богатств (запад) Кэсар именуется Царем воинств и одновременно Владыкой лошадей.
По всей видимости, это определение соответствует исторической правде, так как кочевые империи и государства, сменявшие друг друга на арене Центральной Азии, отличались прежде всего своей воинственностью и великолепно организованной боевой конницей, приносившей им славу и богатство. Ю. Н. Рерих подчеркивает, что отождествление Кэсара с обобщенным образом вождя северных кочевников имеет долгую и прочную традицию в тибетской историографии. При этом ученый полагает, что под центрально-азиатским народом царя Кэсара подразумеваются тюрки [Там же. С. 78–79].
Действительно, отождествление Кэсарова воинства с древними тюрками имеет под собой реальную историческую почву, ибо почти вся история I тысячелетия н. э. была, как известно, ознаменована гегемонией тюркоязычных этносов на территории Центральной Азии (первая в истории кочевников империя хунну, эпоха тюркских каганатов). Условно этот миллениум можно назвать тюркским периодом в истории Великой степи, но при этом необходимо оговориться, что наряду с тюркским фактором значительную роль играли и монголоязычные племена, входившие в состав тех или иных крупных племенных союзов на территории Центральной Азии, начиная со времен хунну. Им удавалось создавать и свои кочевые государства, как, например, сяньби (II–III вв.) и жужани (IV–VI вв.). Так, об особой роли сяньбийской культуры свидетельствует анализ религиозной системы Тюркского каганата, который дает возможность увидеть ее монгольское происхождение [Гумилев, 1967. С. 81–82]. Поэтому с давних пор тибетцы называли своих северных соседей хор-па, подразумевая под этим тюрков и монголов. Примечательно, что данный термин сохранился в ряде монгольских этнонимов: хори, хорчин, хорлос, хурлат и др.
Указание на латеральную связь страны тюрко-монгольских номадов с созвездием Большой Медведицы также не лишено основания. Культ данного созвездия был широко распространен среди монголоязычных народов, о чем свидетельствуют памятники культовой поэзии, например, старомонгольский обрядовый текст «Поклонение созвездию Семи Старцев» (Doluγan ebügen kemekü odun-u sudar). До недавнего времени аларские хонгодоры совершали общеплеменной тайлган, посвященный Семи Старцам, некогда превратившимся в созвездие Долон yбгэд – Большую Медведицу [Зимин, 1996. С. 86]. Бурятская легенда символично перекликается с алтайской, согласно которой эпический Когюдей-Мерген после завершения своих земных подвигов поднимается в небо и становится созвездием Семи Каанов или Семи Когюдей-Мергенов [Маадай-Кара, 1973. С. 436]. Схожий астральный мотив фигурирует и в бурятском эпосе, где Гэсэр создает созвездие Большой Медведицы из черепов черных семи кузнецов, выступая в роли божества-демиурга [Абай Гэсэр, 1960. С. 279]. Данное созвездие выступает и в качестве места проведения собрания небесных богов в одном из эхирит-булагатских вариантов Гэсэриады [Curtin, 1909. P. 134–135].
Несомненно, сведения о раннем периоде тибетско-центрально-азиатских связей, приводимые Ю. Н. Рерихом, покоятся на устных источниках, но сам факт их существования представляет определенный интерес как пример, подтверждающий имманентность северной версии мифологемы сына неба, обретшего в трансгималайско-сибирском этнокультурном пространстве имя Гэсэр. Необходимо указать, что в своих суждениях о «другом Кэсаре» ученый ссылается на письменный источник «Заветы Падмасамбхавы», посвященный апокрифическому житию Падмасамбхавы – основателя тибетского буддийского тантризма и единственного из религиозных деятелей Тибета, чье имя упоминается в тибетских версиях Гэсэриады. Он же считается отцом старейшей тибетской буддийской школы ньинма (VIII в.), приверженцы которой первыми приняли «Сказание о Кэсаре» и приспособили его к своим потребностям. Они же издали свою камскую версию данного эпоса в Дэргэ, монастыре Цзог-чен.
Данное указание на буддийскую школу ньинма важно тем, что к ней относился, судя по всему, тибетский панегирист – лама Чойбэб, автор первой поэмы о Гэсэре. Это заметно по тому, что в его творении не чувствуется влияние ламаизма, образовавшегося в XIV в. в Тибете, а наоборот, отражаются шаманизм, буддизм в толковании Падмасамбхавы. Последний нередко фигурирует в эпическом тексте как защитник и духовный отец Гэсэра, в то время как другие известные буддийские деятели, как Пагба-лама (1235–1280 гг.), Цзонхаба (1357–1419 гг.), далай-лама и другие фигуры вообще не упоминаются, что свидетельствует о существовании Гэсэриады до появления ламаизма на территории Амдо [Дамдинсурэн, 1957. С. 127].
Примечательно и то, что в амдоской версии, подробно исследованной Ц. Дамдинсурэном, содержатся реминисценции добуддийской мифологии. Так, в небесном прологе говорится о трех подразделениях или сферах мира: небесном, земном или промежуточном и подземном, что более соответствует шаманскому характеру миропредставления [Там же. С. 83]. (ср.: в сибирско-центрально-азиатской религиозной мифологии существовала своя органично присущая ей система классификации пантеона. В основе ее лежит трихотомическое деление макрокосма на Верхний, Средний и Нижний миры, между которыми распределены все живые существа, все боги и духи [Кляшторный, 1981. С. 124]).
Любопытным представляется момент, где описывается смена Гэсэром (Дондуп-Карбо) своего небесного тела, которое он оставляет в Верхнем мире, прежде чем спуститься в мир людей [Дамдинсурэн, 1957. С. 89]. В эхирит-булагатской Гэсэриаде есть весьма схожий эпизод, где описывается возвращение Гэсэра в конце своего земного пути опять на небо – в прежнее тело – зоболго , которое он оставил в трехлетнем возрасте при отправлении на землю. Боги обещали сохранить зоболго героя в целости и сохранности до его возвращения на небо [Ошор Богдо…, 1964. С. 76, 220]. Это древнейшее языческое представление бурят, нашедшее отражение в Гэсэриаде и имеющее очевидную параллель в амдоской версии, еще раз говорит о взаимосвязи добуддийских мотивов, исходящих из мифологических традиций, обладающих общей типологической основой.
Также примечательной деталью является то, что в той же амдоской версии пролога для обозначения масти небесного коня, которого небожители дают будущему Гэсэру при его спуске на землю, употреблено монгольское слово хээр [Дамдинсурэн, 1957. С. 88]. Это редкий случай заимствования в тибетском тексте, отмеченный монгольским ученым, вряд ли носит случайный характер. Возможно, он содержит отзвук стародавних исторических реалий, если иметь в виду, что конница древних тогонов и их многочисленные табуны состояли преимущественно из лошадей гнедой масти, и именно эта масть постоянно подчеркивается в исторических источниках [Дугаров, 1983. С. 7, 9–10].
Следует учитывать, что в древних кочевнических обществах масти коня придавалось особое значение. Это нашло отражение в эпосе и мифологии тюрко-монгольских народов. Характеристика эпического героя обязательно включала указания на его коня и масть. Будучи конным народом, кочевники не представляли и своих богов-всадников без верховой лошади, масть которой непременно называлась при описании того или иного божества. Обратим внимание, что гнедая масть характеризует Гэсэрова коня во всех без исключения монгольских и бурятских версиях Гэсэриады. Также напомним, что такую же масть имеет конь якутского Нюргун Боотура – мифологического «двойника» бурятского Гэсэра.
Как видим, амдоский пролог, в «самой древней из всех известных версий Гэсэриады», авторство которой приписывается Чойбэбу [Дамдинсурэн, 1957. С. 149], содержит в себе родимые пятна «тогонского» прошлого Кукунора и Амдо. Исходя из гипотезы о существовании некогда в Центральной Азии монгольской эпической общности, распавшейся на ряд «ветвей» [Неклюдов, 1984. С. 80], можно предположить, что тип Гэсэра, соответствующий его предшественнику Хухэдэй Мэргэну в бурятской эпической традиции (ср. Хар батор в восточно-монгольском «Сказании о кальпе» и якутский Нюргун Боотур), мог вполне существовать в ранний период центрально-азиатской истории.
Охотничий культ, считавшийся основополагающим в системе религиозномифологических представлений протомонголов [Пурэвжав, 1974. С. 127], имплицитно указывает на существование божества – покровителя охотников, каковым мог быть Хухэдэй Мэргэн. Именно в этой ипостаси он сохранился в архаичной мифологии эхиритских бурят, будучи богом-громовержцем, молнией уничтожающим нечистую силу на земле. Последняя функция архетипически характеризует Хухэдэй Мэргэна как бога-героя, обретшего в эпической интерпретации статус божественного воителя, наделенного демоноборческой миссией, т. е. произошло своего рода сгущение теологической концепции в мифологическом герое.
Возможно, в «тогонский» период этнических предтечей монголов – сяньбийцев в пределах Кукунора образ Хухэдэй Мэргэна – древнейшего героя тюрко-монгольского эпоса или его ареальная модификация могли трансформироваться на базе встречных схожих мотивов индотибетского происхождения в образ сына небожителя, посылаемого на землю с миссией очищения ее от смуты и различных проявлений Зла в качестве героя – справедливого правителя под именем Гэсэр. Поэтому высказанная Ц. Жамцарано гипотеза о времени и ареале зарождения Гэсэриады содержит элементы «продуктивной идеи» [Неклюдов, 1984. С. 165]. Ибо эта точка зрения соединяет центрально-азиатскую (тюрко-монгольскую) предысторию концепта сына неба с тибетской эпической традицией в контексте «тогонского» периода истории Кукунора и Амдо, что обусловило феномен древнего этнокультурного сотворчества. По мнению Ю. Н. Рериха, Гэсэриада представляет собой «старинный памятник кочевой поэзии, созданный усилиями нескольких кочевых народов». Его древнее ядро принадлежит общему наследию Центральной Азии [Рерих, 1999. С. 268].
Таким образом, идея героя – сына неба получает наиболее яркое эпическое воплощение в Гэсэриаде, что явилось одной из главных причин ее универсальной популярности у народов центрально-азиатской кочевой цивилизации. При этом следует подчеркнуть, что при всей необычайной вариативности эпоса о Гэсэре в пределах каждой национальной эпической традиции исходной главой неизменно является небесный пролог, повествующий о божественной предыстории героя, о богах и их решении отправить одного из своих сыновей для установления истинного справедливого правления в мире людей. Если в тибетской и монгольской версиях книжной Гэсэриады протагонистами выступают будды и бодисатвы, то совершенно иная картина, связанная с народной мифологией, наблюдается в устной бурятской версии.
В прологе бурятской Гэсэриады представлен пантеон тэнгристских божеств, а их сыновья во главе с Гэсэром спускаются на землю, чтобы исполнить волю своих небесных отцов-небожителей. В этом нетрудно усмотреть эволюцию концепта сына неба и его эпической интерпретации, разработанную в русле исконных мифологических представлений тюркомонгольских народов. По всей вероятности, сам пролог как композиционный зачин возник из необходимости объяснить небесное происхождение эпического героя, что связано со значимостью уранического фактора в религиозно-мифологической традиции Центральной Азии, получившего адекватную фольклорную интерпретацию в Гэсэриаде.