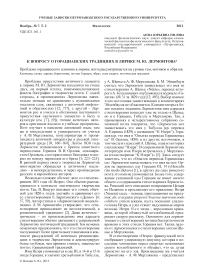К вопросу о горацианских традициях в лирике М. Ю. Лермонтова
Автор: Нилова Анна Юрьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (128) т.2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Проблема горацианского влияния в лирике поэта рассматривается на уровне тем, мотивов и образов.
Лирика лермонтова, поэзия горация, образ, тема смерти, поэтическая традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14750272
IDR: 14750272 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи К вопросу о горацианских традициях в лирике М. Ю. Лермонтова
Проблема горацианского влияния в лирике поэта рассматривается на уровне тем, мотивов и образов. Ключевые слова: лирика Лермонтова, поэзия Горация, образ, тема смерти, поэтическая традиция
Проблема присутствия античного элемента в лирике М. Ю. Лермонтова находится на стыке двух, на первый взгляд, взаимоисключающих фактов биографии и творчества поэта. С одной стороны, в произведениях Лермонтова значительно меньше по сравнению с пушкинскими текстами слов, связанных с античной мифологией и образностью [12; 717], с другой – Лермонтов рос и учился в обстановке постоянного присутствия «античного элемента» в быту и культуре (см. [7], [9]), чтение античных авторов в оригинале входило в учебные программы. Поэт изучает в пансионе латинский язык; там же и впоследствии в университете он учится у А. Ф. Мерзлякова, популяризатора и пропагандиста античной литературы в русской литературной среде [10; 160–164]. Летом 1830 года Лермонтов познакомился с братом известного переводчика Горация В. И. Орлова, семинаристом Орловым, с которым много беседовал и спорил по поводу переводов его брата [3; 223–225]. В ранний период своего творчества Лермонтов многократно обращался к античному наследию – и непосредственно, и через произведения русских и европейских авторов.
Несколько сложнее обстоит дело со стихотворением 1831 года «К Неэре». Оно обычно рассматривается в контексте элегического творчества поэта. Так, В. Вацуро называет его «очень обычной для 1820-х годов элегией» и сравнивает его со стихотворением Е. Баратынского «Делии» [4; 57, 59]. Автор статьи в «Лермонтовской энциклопедии» Л. М. Аринштейн утверждает, что «стихотворение принадлежит не антологической, а романтической традиции» [2]. Даже античное – греческое – по происхождению имя адресата стихотворения обычно связывают с современной Лермонтову поэтической традицией. Тем не менее осмелимся предположить, что это стихотворение заслуживает более пристального внимания в контексте рассуждений об античных реминисценциях в творчестве Лермонтова и демонстрирует более глубокое, чем принято считать, знакомство поэта с горацианской традицией.
Имя Неэра упоминается в оде III, в 14-й и 15-й эподе Горация, в элегиях третьей книги Тибулла, у А. Шенье и А. Ф. Мерзлякова. Б. М. Эйхенбаум считал, что Лермонтов заимствовал это имя из стихотворения А. Шенье «Néère», перевод которого А. Колышкевич опубликовал в журнале «Галатея» (№ 31 за 1829 год) [12; 493]. Выбор именно этого источника заимствования в комментариях Эйхенбаума не объясняется. Комментаторы в более поздних изданиях Лермонтова имя адресата стихотворения возводят уже не только к Шенье, но и к Горацию, Тибуллу и Мерзлякову. Так, в примечаниях к четырехтомному собранию сочинений поэта говорится, что «Лермонтов мог заимствовать это имя у Тибулла (ср. перевод А. Киреева (1829) с названием “К Нэере”), Горация (ср. это имя в “Опытах перевода Горациевых од” В. Орлова, 1830) и из других источников, в том числе из идиллий А. Шенье, одна из которых озаглавлена “Нэера”. В современной Лермонтову литературе имя Нэера встречалось у Мерзлякова (стихотворение “К Нэере”)» [5]. Здесь следует заметить, что из «Опытов перевода Горациевых од» Лермонтов заимствовать это имя не мог: Орлов не переводил оду Горация III, 14 («Herculis ritu modo dictus») [1], в других же одах римского поэта это имя не упоминается. Более того, содержание указанной оды Горация не имеет ничего общего с содержанием стихотворения Лермонтова. Римский поэт описывает возвращение Цезаря из Испании и прославляет его правление. Неэра (Neaera) здесь – певица, приглашенная на праздник: dic et argutae properet Neaerae murreum nodo cohibere crinem (скажи, пусть поспешит сладкоголосая Неэра, в узел стянет надушенные миром волосы). Неэра 15-го эпода – вероломная красавица, которой обманутый возлюбленный предрекает скорую расплату. Основного для лермонтовского стихотворения мотива быстротечности времени в этих стихах Горация нет. Также далеки от лермонтовского стихотворения элегии Шенье и Мерзлякова.
В стихотворении «Неэра» французский поэт изображает умирающую девушку, которая в последние мгновения перед смертью вспоминает своего возлюбленного и обещает, что ее душа прилетит на его зов. Произведение же учителя Лермонтова – А. Ф. Мерзлякова – представляет собой пространные стенания отвергнутого возлюбленного и, как и предыдущие стихи, не содержит мотива скоротечности жизни, символом которой становятся быстроувядающая девичья красота и свежесть розы. Тем не менее при всем различии героини Лермонтова и ее литературных предшественниц стихотворение «К Неэре» имеет образец в горацианской лирике – это чрезвычайно популярная в конце XVIII – начале XIX века ода I, 5 «Quis multa gracilis te puer in rosa…» («К Пирре»). Именно в этой оде Горация присутствует образ легкомысленной красавицы и мотив скоротечности и изменчивости ее любви. К 1831 году русскими авторами было сделано 7 переводов и подражаний оде Горация [1; 277]. Самые известные из них: Г. Р. Державин «Пирре» (1804), В. Л. Пушкин «К Пирре» (1808), А. Ф. Мерзляков «К Пирре» (1811), В. В. Капнист «К Пирре» (1818). Все указанные стихотворения являются скорее подражаниями, чем переводами. В них не соблюдается поэтический размер образца и значительно превышается его объем: 12 строкам оды римского классика соответствуют 27 строк у Державина, 29 у В. Л. Пушкина, 30 у Мерзлякова и 32 у Капниста. Это увеличение вызвано тем, что в стихах русских авторов описания более пространны, а темы, которые у Горация только намечаются, становятся предметом обширных размышлений. Так, краткое описание внешности Пирры (cui flavam religas comam // simplex munditiis – для кого золотистые заплела кудри просто и изящно), занимающее у Горация полторы строки, у его подражателей иногда превращается в очень подробные характеристики с большим количеством деталей.
Державин:
И для кого ты так небрежно На голубые взоры нежно Спустила прядь златых волос?
Это описание поэт дополняет замечанием: «В сие время модная прическа женщин состояла в том, что спускали прядями волосы на лицо». Я. Грот предположил, что поэт здесь описывает моду времени создания переложения и сравнивает описанную Державиным прическу с прической его жены на одном из портретов [6; 515].
В. Л. Пушкин:
По груди снежной, белой, Как будто ненарочно, Власы ты распуская, Взираешь на него!
Мерзляков:
Алые персты твои расплетают
Шелкову косу на радость счастливца: Волны струйчата злата
Пали роскошно на лилии персей, Выя на рамо; рука в руку; тают Негой страстною очи…
Капнист:
И для кого плетешь в небрежном Убранстве злато льнистых кос?
Во всех подражаниях, кроме стихотворения Мерзлякова, присутствует чуждая античной поэзии рифма, а В. Л. Пушкин использует и свойственный легкой поэзии трехстопный ямб. Мерзляков пытается передать строфическое строение оды Горация (третья асклепиадова строфа) строфой из двух строк четырехстопного дактиля с усечением в один безударный в последней стопе и одной строки трехстопного дактиля также с усечением. Сосредоточившись на детальном, очень подробном описании свидания Пирры с красавцем и передавая отчаянный монолог отвергнутого любовника, Мерзляков отказывается от завершающего горацианскую оду и присутствующего у других авторов в конце стихотворения описания, восходящего к римской традиции посвящать богу моря одежды, в которых спасся потерпевший кораблекрушение. В этом стихотворении автору вместо радости любви «веет радость с лиры звучныя Феба».
Стихотворение Лермонтова «К Неэре» начинается с описания, восходящего к пятой оде первой книги Горация, причем по простоте и краткости это описание гораздо ближе к Горацию, чем соответствующие фрагменты предшественников Лермонтова:
Скажи, для чего перед нами
Ты в кудри вплетаешь цветы?
Это не единственный в его творчестве пример сближения с античным первоисточником в обход хронологически более близкого образца.
Стихотворение «К Неэре» состоит из 24 строк и написано редким для Лермонтова трехстопным амфибрахием со сложной рифмовкой: четные строки имеют перекрестную неточную рифму, в нечетных строках рифма непоследовательна. Поэт использует основную идею оды – скоротечность и изменчивость жизни, чьи радости и соблазны мимолетны, но иначе ее реализует.
Оду Горация можно условно разделить на три части: описание внешности Пирры и свидания девушки, рассуждение о быстротечности и изменчивости жизни, кратковременности ее радостей, которыми в данном стихотворении являются любовь и внимание легкомысленной красавицы, отказ автора от соблазнов любви. В лермонтовском стихотворении тоже можно выделить три части: описание внешности, рассуждение о быстротечности времени, которое не щадит ничто и никого, осмысление смерти как возможности избежать разрушающее воздействие времени и сохранить красоту. Лермонтов не изображает свидание, он отказывается от описания конкретной истории любви и характеристики жертвы красоты и мимолетных чувств героини, рассуждения о скоротечности счастья занимают у него значительно больше места и по сравнению с одой римского поэта, и относительно остальных частей стихотворения; он изменяет и сам способ репрезентации идеи скоротечности радостей жизни. Для Горация доказательством этого служит переменчивость чувств красавицы, у Лермонтова – кратковременность самой красоты девушки, которая вслед за утратой красоты утратит и свою власть над сердцами и любовь к себе, ей, а не отвергнутому ею поклоннику придется изведать горечь измены. Сходные мотивы есть и в стихотворении Баратынского «Делии», с которым сравнивает лермонтовское произведение Вацуро. Но в стихотворении Баратынского вслед за предсказанием скорой утраты красоты героини следует описание жалких ухищрений, на которые идет бывшая красавица, дабы сохранить привлекательность и внимание. Подобное ироничное, почти сатирическое описание мы наблюдаем в оде Горация III, 13 («К Лике»). Лермонтов не использует эти дополнительные мотивы, сосредоточивая внимание на главном мотиве скоротечности жизни. Устранение описания свидания, а значит, и второго персонажа, придает утверждению о скоротечности жизни и переменчивости счастья большую объективность и универсальность, лишает его сиюминутной или ситуативной конкретности.
Изменяет Лермонтов и образ главной героини. Пирра Горация классически проста и ясна, Лермонтов придает своей героине романтическую таинственность, недосказанность:
Ужель ты безумным весельем Прогнать только хочешь порой Грядущего тени? ужели
Чужда ты веселью душой?
Поэт придает новое, романтическое звучание образам и мотивам, обновляет и придает им свежесть, одновременно вступая в полемику с Горацием.
Крупнейший лирик Древнего Рима Квинт Гораций Флакк считал, что богатство, слава, власть и даже красота и любовь уничтожаются смертью. Единственной возможностью продолжения жизни после смерти, по его мысли, является поэтическая слава – тот вечный памятник, который не может разрушить ни разъедающий дождь, ни ветер, ни череда бессчетных лет. Лермонтов же проблему конечности человеческого существования и мимолетности земных ценностей решает в рамках романтической, а не классической системы идей: не желая смириться с гибелью красоты, лирический герой предлагает умереть ее носительнице, сохранив таким образом и свое очарование, и свою власть над сердцами. По мнению поэта-романтика, смерть не уничтожает, а сохраняет благодаря памяти. Память, воспоминание, припоминание – один из важнейших мотивов лермонтовского творчества. «Забвенья не дал Бог» Демону, который «не взял бы забвенья», Печорин говорит о себе: «Я странно создан, я ничего не забываю». Память, незабвенность – один из источников страданий героев Лермонтова, но и возможность преодолеть конечность человеческой жизни. Именно память сохранила для поэта звуки песни, которую пела его мать.
В последних строках стихотворения «К Не-эре» появляется образ юноши, но это не gracilis puer горацианской оды. Лермонтовский «юный красавец» не имеет личностных характеристик, его голос – это голос памяти, преодолевшей всепоглощающее время и сохранившей юность и красоту. Сложно сказать, ориентировался ли Лермонтов непосредственно на оду Горация, на стихи кого-то из его подражателей, или в его стихотворении отразился весь комплекс восприятий оды римского автора в русской поэзии, но влияние горацианской традиции на стихотворение «К Неэре» очевидно.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Т. 1. С. 415–529.
Список литературы К вопросу о горацианских традициях в лирике М. Ю. Лермонтова
- Античная поэзия в русских переводах XVIII-XX вв.: Библиогр. указатель/Сост. Е. В. Свиясов. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. 399 с.
- Аринштейн Л. М. «К Неэре»//Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1981. С. 210.
- Бродский Н. Л. М. Ю. Лермонтов. Биография. Т. 1. М.: ОГИЗ, 1945. 348 с.
- Вацуро В. Э. О Лермонтове: Работы разных лет. М.: Новое издательство, 2008. 714 с.
- Голованова Т. П., Чистова И. С. Примечания//Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979-1981. Т. 1. С. 529-626.
- Державин Г. Р. Сочинения с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1865. Т. 2. 736 с.
- Кнабе Г. С. Русская античность: содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т. Ин-т высш. гуманит. исслед., 2000. 238 с.
- Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 5 т. М.; Л.: Academia, 1935-1937. Т. 1. 539 с.
- Мальчукова Т. Г. Античные традиции в истории русской культуры (Опыт истолкования проблемы)//Рецепция античного наследия в русской литературе XVIII-XIX вв. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. С. 3-52.
- Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия XVIII -начала XIX веков. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 400 с.
- Частотный словарь языка М. Ю. Лермонтова//Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1981. С. 717-774.
- Эйхенбаум Б. М. Комментарии и варианты//Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 5 т. М.; Л.:Academia, 1935-1937. Т. 1. С. 415-529.