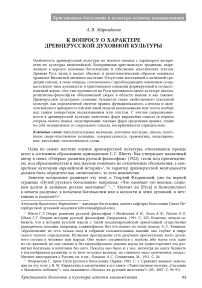К вопросу о характере древнерусской духовной культуры
Автор: А. В. Маркидонов
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Христианское богословие и культура: аспекты взаимовлияния
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Особенность древнерусской культуры во многом связана с характером восприятия ею культуры византийской. Воспринимая христианскую традицию, выраженную в корпусе основных богословских и собственно аскетических текстов, Древняя Русь лишь в малых объемах и несистематическим образом осваивала хранимое Византией античное наследие. Отсутствие восходящей к античной традиции школы, в свою очередь, соотносилось с преобладающим значением созерцательного типа духовности: в христианском сознании формируемый и осуществляемый верою, этот тип духовности на Руси противопоставлен культуре школы, религиозно-философски обоснованной скорее в области знания и как таковое. Древнерусское культурное сознание чуждается также свойственного школьной культуре, как определенной системе правил, функционального, а иногда и аксиологического приоритета той или иной модели высказывания или текста вообще над самим конкретным высказыванием или текстом. С учетом сакрализованности в древнерусской культуре известных форм выражения смысла (в первую очередь самого языка), моделирование таковых форм средствами правил, самих по себе независимых от сакрального смысла, воспринимается отрицательно.
Интеллектуальное молчание, античное наследие, школа, платонизм, сверх-чувственное познание, созерцательность, грамматика, моделирование, лжесловие, онтологичность слова
Короткий адрес: https://sciup.org/140220803
IDR: 140220803
Текст научной статьи К вопросу о характере древнерусской духовной культуры
В работе 1962 г. «Проблема древнерусской культуры» о. Г. Флоровский возвращается к прямой постановке заданного ранее вопроса (в косвенных исследованиях непрерывно подготавливая для него почву). «Наиболее острый вопрос для историка культуры Древней Руси, — пишет здесь о. Георгий Флоровский, — звучит так: в чем заключается причина того, что можно назвать ее интеллектуальным молчанием? Было великое искусство, и была также немалая активность в политической и социальной жизни, включая идеологическую сферу. Но при этом не было создано ничего оригинального и выдающегося в сфере мысли, как теологической, так и светской. Легче ответить на этот вопрос, если принять мнение, что Древняя Русь была просто примитивна, находилась в состоянии дремоты и стагнации. Но сейчас мы знаем, что во многих других отношениях Древняя Русь была способна на великие достижения. Поэтому не стоит поддаваться искушениям легких ответов»3.
В конечном счете о. Г. Флоровский продолжает, как и в своем раннем исследовании, говорить на означенную тему, отвечать на поставленный вопрос в границах ранее сформулированного им представления о «кризисе византийской культуры в русском духе». «Кризис же, — пишет он, — состоял в том, что византийские достижения были приняты, но византийская пытливость не усвоена. По этой причине достижения сами по себе не могли быть сохранены как живые и действенные»4. В подходе о. Г. Фло-ровского нельзя упускать из виду и то, что его позиция во многом формировалась в порядке критики «евразийской» историософии. «Моя ударная задача, — пишет Флоровский крупному слависту Д. И. Чижевскому в 1949 г., — опровергнуть опасный предрассудок, что русская философия и культура „совсем особенная“ и даже категории у них совсем другие... Я же давно из псевдоевразийца стал западником, вернее, икуменистом»5.
Конечно, раздражает о. Г. Флоровского в таком, условно говоря, евразийски ориентированном подходе это радикальное «совсем особенная», но все же и сближение здесь со Шпетом в предпочтении «категорий европейской истории» достаточно очевидно. Оппонирующая этой «европейской» ориентации точка зрения действительно развивалась в применении к первой половине ⅩⅩ в. в евразийской культурологии. Используем это понятие культурологии подчеркнуто, имея в виду, что, например, Н. С. Трубецкой с его «Лекциями по древнерусской литературе», где он стремится обозначить и продемонстрировать ее своеобразие, пытался сохранить дистанцию и различие между политическим и культурным аспектами евразийства.
Возвращаясь к основному положению о. Г. Флоровского о нетворческом, с его точки зрения, пассивном и поэтому бесплодном восприятии Древней Русью «византийских достижений», мы должны существенно уточнить самое содержание того, что собственно воспринималось. В определенном смысле это «уточнение» было сделано Г. П. Федотовым. В целом ряде своих работ он проводит мысль о сомнительности и даже пагубности для развития творческой культуры того события, которое предваряет и качественно определяет христианизацию Руси. Имеется в виду перевод греческой Библии на славянский язык.
«Мы привыкли, — пишет Г. Федотов, — видеть в этом факте исключительное счастье, редкий дар судьбы народу русскому. В то время как Запад внимал без разумения словам латинских молитв и целые столетия не умел закрепить на пергаменте материнской речи, наша литература своим рождением едва ли не упредила образование Киевского государства». Однако, продолжает он, «надо отдать себе отчет в том, какою ценою мы заплатили за славянское слово.
Западное христианство — и не одно германское или кельтское, но и романское — оказалось обладателем сокровища, ключ к которому был запрятан глубоко в преданиях светской античной образованности. Может быть, Библия есть единственная „книга“. Но чтобы понять ее, нужно трудом и терпением преодолеть целые библиотеки книг. „Тривий“ и „квадривий“ — энциклопедия филологических и естественных знаний были пропедевтикой к царице наук — теологии. Но раз овладев этим ключом — не только к Библии, но и ко всей великой греко-романской цивилизации, — трудно было уберечься от обаяния ее мудрости и красоты.
Монастырские библиотеки хранят и множат тома Вергилия, Овидия, Горация. Несмотря на предостерегающие голоса ревнителей, „языческая“ красота и истина освящалась латинским словом. Ибо латынь — священна, это язык Божий.
В сущности, в этом факте дана неизбежность „возрождения“ классической древности, по отношению к которой средневековье было только односторонним ее переживанием.
И мы могли бы читать Гомера при Ярославичах, переписывать в суздальских лесах Софокла и Платона... Сперва повторять ученическими устами мудрые слова, потом, окрепнув, дерзнуть на творчество — на собственную мысль. Творчеством не скудна, конечно, Русь, но ее мысль — научно-философская мысль — спала веками, проспала Возрождение и очнулась так поздно, что между ее вещими, но смутными мечтами и наукой Запада выросла пропасть»6.
Итак, согласно Г. П. Федотову, непосредственный доступ к Священному Писанию сделал во многом ненужными для славян усилия по освоению культурного, — прежде всего филологического, а также и философского, — наследия античности для прочтения и истолкования текста Откровения. Хранителем и источником этого античного наследия выступала, конечно, Византия. Воздерживаясь в данном случае от специального анализа и оценки глобальных выводов Г. П. Федотова (как например: «славянская речь, то есть разрыв со вселенской мыслью, объясняет... абсолютную нищету нашу»), отметим существенное значение установления самого факта именно такой — не всецелой, избирательной — рецепции на Руси византийского наследия: воспринято было в собственном смысле церковное, но не общеобразовательное, восходящее к античной школе содержание культуры7.
В Византии, как известно, имело место сосуществование христианской Церкви и светского образования, сформированного в порядке школы еще на почве позднеантичной, а в истоках своих — даже классической античной культуры. Находясь в состоянии периодически возникающего конфликта или, по меньшей мере, дискуссии, «аскетическое» и «гуманистическое» (В. М. Живов) направления в Византии сохраняли, однако, возможность независимости образования, совпадающей в данном случае с его светскостью.
Несмотря на то, что христианское огласительное училище, прежде всего александрийского извода, в конце Ⅱ — начале Ⅲ в. придавало определенному кругу внешних наук пропедевтическое значение, связь веры и школы никогда не приобрела в Византии характера необходимости, не стала обязательной. Уже Ориген, как сам он замечает, «наученный опытом», предостерегал своих учеников, говоря в присущей ему аллегорической манере, «что мало таких, которые взяли из Египта полезное, и вышли из него, и соорудили то, что относится к служению Богу; напротив, много братьев идумеянина Адера. Это те, которые вследствие известной эллинской изобретательности вызвали к жизни еретические мысли и, так сказать, соорудили золотых телиц в Вефили, который изъясняется: дом Божий»8.
Теперь уже можно смело утверждать также и то, что богословие в Византии никогда не входило в состав школьных дисциплин: «никакого специально духовного образования не было вообще»9.
При этом, однако, прививка античной школы актуализировала область интеллектуальной культуры внутри церковного Предания, дала философский инструментарий, выработала дисциплину мысли, — не нарушая, впрочем, за редким исключением, ее иерархической подчиненности веросознанию Церкви, — задачам собственно религиозного духовного устроения христиан.
Таким образом, ортодоксия, определенное религиозно-аскетическое задание, как стержень духовной культуры, не отменяло, однако, в Византии возможности известного взаимоприемлемого иерархического расположения — того, что от веры, и того, что от школы, — в модусе реальной истории. По мере осуществления этой истории — либо в порядке движения от язычества к христианству (апологеты), либо в опыте догматико-полемической деятельности Церкви (эпоха Вселенских соборов), либо, наконец, именно в условиях школы, если (по слову Синодика в Неделю Православия) то, что «для научения», внятно отличалось от того, что «для веры», — во всех таких случаях обнаруживало себя функционально-прагматичное или нейтральное (независимое) положение школы в Византии, ее устойчиво светский характер.
«На Руси же, — пишет в специальном исследовании В. М. Живов, — образование носило катехитический характер: образованность не вырастает здесь, как в Византии, из античной традиции, а поначалу целиком связана с миссией»10.
«В вопросах педагогики, — отмечает крупный исследователь древнерусской словесности Д. М. Буланин, — правители Древней Руси и балканских государств ˂...˃ единодушно присоединились к решению болгарского царя Симеона и не помышляли ни о какой общеобразовательной школе, которая по тем временам могла быть только эллинистической, то есть инородной христианству. Эллинские науки тривиума и ква-дривиума не стали предметом преподавания ни у восточных, ни у южных славян. Им не обучали ни в государственных школах, ни на дому»11.
Культура византийского двора, столичной образованности, как раз в Ⅹ‒ⅩⅠ вв. переживавшей новый всплеск актуализации интереса к античному наследию, могла, конечно, локально и спорадически достигать славянский княжеский двор, сообщать какой-то круг светских знаний. Известное Послание пресвитеру смоленскому Фоме киевского епископа Климента Смолятича в середине ⅩⅡ в. косвенно свидетельствует о достаточно серьезной искушенности автора в наследии античной школы, подчеркнуто увязанном в Послании с княжеской интеллектуальной культурой. «Говоришь мне, — обращается Климент к своему критику, — по-философски пишешь; и весьма несправедливо говоришь, будто бы я, оставив почитаемые Писания, стал писать из Гомера, и Аристотеля, и Платона, прославившихся эллинскими хитростями. (Но) если я и писал, то не к тебе, а ко князю...»12
Интересно, что, уклоняясь от прямой защиты «эллинских хитростей», Климент переходит к вопросу о необходимости духовно-иносказательного истолкования Священного Писания, демонстрируя здесь же его конкретное применение. «Не подобает ли, — вопрошает Климент, — до тонкости испытывать смысл Божественных Писаний? ˂...˃ Когда описывают евангелисты чудеса Христовы, хочу я это понимать иносказательно и духовно. „Что мне в дочери князя Иаира?“ — вопрошаю духовно и отвечает мне „то и то“. Что мне в дочери хананеянки, но я хочу понять о ней духовно. Что мне в кровоточивой, — ищу смысла слова! Что мне в пяти хлебах и двух рыбах, — спрашиваю евангелиста! ˂...˃ Что мне в той старице, подавшей две медных монеты в сокровищницу! Но молюсь, чтоб омраченная моя душа стала вдовицей и подала две лепты в сокровищницу: от плоти — целомудрие, от души — смирение»13.
Можно догадываться, что духовно-иносказательное истолкование Священного Писания, необходимость которого только что была сотериологически аргументирована, подспудно соотнесено у Климента Смолятича с такой углубленностью интеллектуальной культуры (способностью «до тонкости испытывать смысл Писаний»), которая может быть воспитана и реализована — в том числе, а может быть, и исключительно — с помощью освоения античного наследия. Не прибегая к открытой апологии этого наследия, Климент проговаривает, тем не менее, в общем виде мысль, отчетливо напоминающую раннепатристический подход к рецепции античной школы христианскою Церковью.
«Подобает нам, возлюбленные, вникать и уразумевать, — говорится в Послании Климента. — Посмотри на огонь ˂...˃, как ухищрением человеческим очищается самая чистая вещь, влагаемая в него. Например, если окажется золото или серебро наполненным какою-либо скверной или примесью и если вложить их в огонь и жечь огненным пламенем, то очищается это золото или серебро и возвращается давшему его чистым и невредимым, а подмешавшаяся к нему грязь без помехи уничтожается. Так если вещественный огонь, сотворенный Богом на службу наделенному умом, мыслящему и разумному человеку...»14 Здесь текст, дошедший до нас, обрывается, оставляя сокрытой вторую половину намеченного сравнения, которое схематически, как нам кажется, могло бы выглядеть так: как вещественный огонь очищает вещи от вредных примесей, так огонь Духом просвещенного разума очищает античную словесность от примеси языческой религиозности.
Еще в 1930 г. известный славист Д. И. Чижевский в статье под названием «Платон в Древней Руси», обобщая фактографию присутствия на Руси античного наследия в целом, сформулировал в связи с этим достаточно уравновешенную позицию. «...И такое „поверхностное“, „неясное“ и „неточное“ знакомство с философией Платона, — писал Чижевский, — представляется не лишенным интереса фактом. Ведь обычные представления о философской образованности древней Руси сводятся к утверждению о том „невегласии“, которое один из наиболее серьезных и основательных исследователей истории русской философии объявил основною чертою древне-русской философской культуры... правильнее сказать, бескультурности... Как ни элементарны разобранные нами в этом очерке сведения древнерусской литературы о философии Платона, они весьма далеки от „невегласия“.
Старинный читатель читал не так, как современный, пробегающий глазами десятки страниц. Стационарное чтение помогало отдельным мелким замечаниям и фразам прочно удерживаться в памяти, и в уме читателя из нескольких мимолетных указаний слагалась яркая и выпуклая картина.
Представление о Платоне... не было детальным и глубоким, в частностях — иногда весьма важных — оно было ошибочно. Но были известны отдельные учения Платона, в том числе довольно существенные. Для самостоятельного философствования, может быть, эти отдельные membra disjecta (разрозненные части) не могли служить исходною точкою, но могли быть применены в том или другом случае вместе с учениями отцов церкви и духовных писателей в помощь главному источнику всех умствований древней Руси о Боге, мире и человеке — Священному писанию.
Мы не хотим преувеличений, — в древней Руси не было «философии» в таком смысле, как средневековая философия на Западе, — чистой, хотя бы и зависимой от богословия, теоретической работы мысли. Но отрицать существование в древней Руси некоторых философский сведений и прочного „мировоззрения“, отдельные пункты которого были не лишены философской окраски, нам думается, нет никаких оснований»15.
Но все же при том, что в количественном отношении присутствие античного компонента в древнерусской культуре может быть уточнено (и уточняется в сторону увеличения), остается несомненным случайное место этого компонента, никогда в древнерусскую эпоху не получившего систематически-значимого положения, не усвоившего статуса школы.
Даже там, где элементы античного знания представлены достаточно полно и соответствуют своей внутренней логике, — в контексте древнерусской религиозности они получают иной, вероучительному замыслу подчиненный, несамостоятельный характер.
Если, например, «мы хотим понять славянскую рецепцию „Физиолога“ (собрания текстов, восходящих ко Ⅱ‒Ⅲ вв. по Р. Х.), необходимо, — пишет Д. М. Буланин, — раз и навсегда отказаться от ошибочной традиции заносить его в число естественнонаучных сочинений. Модернизирует средневековую культуру тот, кто полагает, что „привлекательность представляло именно описание невиданных животных далеких невиданных стран“. (Казаков. 1976. С. 273) „Физиолог“ — учительная книга, а не справочник по натуральной истории, о чем свидетельствует и его окружение в рукописях ˂...˃ например, в Шестодневах или в Толковой Палее... Языческая основа „не могла соблазнить древнерусского читателя: воспринятая памятником строго церковным, она сама получала характер церковный“»16.
Культурное (главным образом, литературное) пространство Древней Руси располагалось в горизонте, с одной стороны, своего рода сверх-Текста, представленного Священным Писанием и патристикой, с другой стороны, непрерывной актуализацией этого сверх-Текста в богослужебном чинопоследовании Церкви. Строгой внутренней жанровой и даже тематической регламентацией это пространство не обладало, — именно по силе его открытости к сверх-Тексту.
С учетом такого определяющего положения веросознания по отношению к сколь угодно широкому разнообразию воспринимаемых в культурное пространство текстов или мотивов, каковы же были конкретные основания выбора той или иной версии этих текстов или мотивов в компиляции древнерусского автора? Как именно осуществлялся этот выбор — в форме отказа, утрированного повторения или переосмысления? Ответ на эти вопросы должен помочь косвенно подойти к пониманию характера древнерусской духовной культуры. Такой ответ в строгом смысле должен быть подготовлен масштабным исследованием древнерусской словесности, которое отчасти уже осуществлено17.
В данном случае мы обратимся к некоторым наблюдениям над текстом фундаментального произведения ⅩⅢ в. — Толковой Палее, сравнительно недавно изданного с русским переводом и комментариями18.
Толковая Палея — памятник скорее всего чисто русского происхождения, в тексте которого пересказываются с полемическими антииудейскими толкованиями, а также со многими дополнениями и комментариями библейские книги — от Книги Бытия до истории Соломона19.
Довольно богато представленная интересующая нас здесь антропологическая тематика Толковой Палеи и самый текст обсуждения этой тематики, включающей физиологический, гносеологический и собственно религиозный аспекты, — непосредственно и часто буквально восходит к Шестодневу Иоанна экзарха Болгарского Ⅹ в. Шестоднев, в свою очередь, масштабно, почти в чистом виде аккумулирует античную антропологическую традицию, идущую, главным образом, то от Платона, то от Аристотеля и последующей естественнонаучной мысли.
Надо отметить, что в русской версии (т. е. именно в Толковой Палее сравнительно с Шестодневом) антропологическая проблематика гораздо более религиозно аскетически насыщена и мотив борьбы души и тела за преобладание, также в основе восходящий к Платону, развивается в Толковой Палее уже в духе и понятиях христианской аскезы. Хотя и в Палее, как и у Платона, аскетическая тема окрашена и даже руководима темой познания.
Вот что пишет Платон в Федоне: «...Когда душа пользуется телом, исследуя что-либо с помощью зрения, слуха или какого-нибудь иного чувства... тело влечет ее к вещам, непрерывно изменяющимся, и от соприкосновения с ними душа сбивается с пути, блуждает, испытывает замешательство и теряет равновесие точно пьяная. ˂...˃ Когда же она ведет исследование сама по себе, она направляется туда, где все чисто, вечно, бессмертно и неизменно, и так как она близка и сродни всему этому, то всегда оказывается вместе с ним, как только остается наедине с собою и не встречает препятствий. Здесь наступает конец ее блужданиям, и, в непрерывном соприкосновении с постоянным и неизменным, она и сама обнаруживает те же свойства. Это ее состояние мы называем разумением...»20.
От этого текста Платона к Толковой Палее мы пойдем через Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского — непосредственный источник Палеи. «...Ум, разумная и державная сила бесплотной души, — читаем мы в Шестодневе, — как некий правдолюбец, нелицеприятный и непоколебимый судья, или, проще говоря, некий царь, сидящий на высоком престоле, быстро понимает то, что слышит, и то, что он видит глазами, воспринимает с помощью восходящего канала, и различает природу каждого предмета, и приемлет сознательно то, что будет на благо и на пользу. И ту двойственность, которая существует в нашем бытии ум разделяет и различает, и дает бесплотному (бесплотное), а вещественному — вещественное, и не того оному, ни оного тому не предоставляя...»21. И далее — фрагмент, буквально (но, как увидим впоследствии, не полностью) воспроизведенный автором Палеи: «Ум сам по себе, то есть своим действием, поднимается на высоту и доходит до небес, видит и созерцает духовные блага в большей или меньшей (степени), в зависимости от своей чистоты, никоим образом не требуя для этого телесных чувств, но, наоборот, отделяясь от них и нисколько не ощущая, что сдерживается ими. К созерцанию же видимых и чувственно воспринимаемых (предметов ум) подходит посредством чувств, сообщая о находящихся перед нами предметах. (Чувства) служат уму, как рабыни, и сообщают, каждое в соответствии со своим природным устройством, назначением и естественной способностью (свойством), о природе того, что следует принимать как хорошее или избегать его»22. Далее идет пространный текст на тему психофизиологических условий познания, заключаемый отсылкой к Платону: «...Философ Платон сказал: „Размышление (мышление) есть внутреннее рассуждение души, направленное на себя, указующее на способность души к исследованию и осмыслению. А то, что исходит от нее, с помощью голоса выходя из уст, является словом. А ум есть деятельность души, он быстро и без преград воспринимает материальную природу существующего“. Поэтому и иные из первых философов называют ум „око душевное“, потому что он непосредственно проникает в природу предмета и очень скоро постигает его суть»23.
Конечно, Шестоднев тоже по-своему интонирует собственное восприятие античного наследия и, в частности, Платона. В данном случае, например, комментаторы издания находят нужным отметить, что если «согласно Платону, разум (ум) обладает способностью к постижению материальных и идеальных сущностей (Государство, 532)», то «в завершающей части комментируемого отрывка (Шестоднева) речь идет лишь о постижении материальной природы, то есть, по сути, назначение ума сводится к восприятию ощущений, которые получает ум через чувства»24.
Если согласиться с этим наблюдением — о движении гносеологической мысли составителя Шестоднева, в общем, от Платона к Аристотелю, — особенно выразительно будет выглядеть соответствующее место в Толковой Палее. Душа, — читаем мы здесь, — «и хотела бы убо предстати Спасу на небесех и со ангелы славити беспрестанно, но связана телом и прилеплена земным вещам. (Припомним парадигматически значимый текст из платоновского Федона, 79 c‒d). Но аще ум в соужниче-стве единем (с душою) спрягошя и поработит телесный сосуд, то аки ангела Божия что представиста своему Владыце. Аще бо тело поработит душу и ум (...) и погубив время в бесконечную муку и погибель вовлечется. Но ум никако телесных требуя чувство. Но и паче от них отступая на согляданье всея благостыни (благиня) приходит. Яко же и первии философы душевное око (ум) прозваша»25.
Далее идет чисто физиологический, отчасти даже физиогномический текст: «Одна часть лица называется носом» и т. д. В основном же гносеологически темати-зированном фрагменте, сравнительно с текстом Шестоднева, бросается в глаза существенное сокращение. Вот как переведено это место Палеи в современном издании: «Ум не нуждается ни в каких чувственных ощущениях; напротив, (только) выступая за их пределы, он приходит к созерцанию блага всякой (вещи), как и думали первые философы, называвшие ум оком души»26.
Между указанием на возможность сверх-чувственного познания и заключением о значении ума как «ока души» в тексте Шестоднева располагаются, во-первых, пространные соображения, посвященные сенсорике познавательной деятельности, и, во-вторых, главное — примыкающий непосредственно к теме познания сверх-чув-ственного тезис о том, что «к созерцанию видимых и чувственно воспринимаемых (предметов ум) подходит посредством чувств...»27.
Таким образом, если в Шестодневе, в принципе, соблюдается симметрия сверх-чувственного и чувственного (т. е. «посредством чувств») познания, то в Толковой Палее в соответствующем месте — едва ли не демонстративная асимметрия: у материального мира не оказывается ему онтологически сообразных средств познания. «...Встает закономерный вопрос, — пишут комментаторы современного издания Толковой Палеи, — является ли сокращение в Палее простой небрежностью ее составителя или за ним стоит какая-то преднамеренная тенденция. Думается, что последнее. Сокращенный вариант антропологического трактата подводит читателя к мысли о превосходстве чистого мышления над чувственно-рациональным познанием, то есть фактически формулирует идею о некоей духовной интуиции»28.
Особенно важно, что это сокращение текста за счет отказа от репрезентации сферы чувственного познания служит, в конечном счете, универсализации познания сверх-чувственного — оно распространяется на всю полноту реальности. Вот почему современные исследователи ключевое место интересующего нас текста Палеи: «Ум никако телесных требуя чувство, но и паче от них отступая на соглядание всея благо-стыни приходит» — переводят на русский: «Ум, ˂...˃ выступая за пределы чувственных ощущений, приходит к созерцанию блага всякой (вещи)»29.
Конечно, здесь звучит исходно парадигматический для такого образа познания платоновский мотив: «Достигнуть чистого знания чего бы то ни было
(отметим универсальный охват реальности. — А. М. ) мы не можем иначе, — говорит Платон в Федоне, — как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе самою по себе душою»30.
«Душа познает истину отнюдь не посредством изучения этих вещей — объектов чувственного мира, — пишет о гносеологии Платона Александр Койре. — Истина чувственных вещей заключается не в них самих, а в их уподоблении вечным сущностям, вечным идеям бога. Эти последние и составляют истинный предмет правильного знания»31.
Конечно, как нельзя было не заметить, Толковая Палея тему изначально платонической по характеру ее раскрытия гносеологии вписывает в смысловой горизонт христианской сотериологии и аскезы: познание осуществляется как спасение и ему подчинено — как в аксиологии, так и в истории домостроительства. Отсюда — глубокий персонализм и органично с ним соотнесенный фидеизм христианской духовности — ключевое положение веры в образе ее осуществления. Толковая Палея, составленная и воспринимаемая в окружении и под знаком сверх-Текста древнерусской культуры, — именно через понятие, а лучше сказать, экзистенциал веры сопрягается с руководящей ею традицией Писания и святых отцов.
У нас есть замечательная возможность соотнести и увязать, условно говоря, гносеологический фрагмент Толковой Палеи не только с линией античного наследия в культуре Slavia orthodoxa, но и, например, с писаниями преподобного Исаака Сирина, как раз с ⅩⅢ в. занимающего в названной культуре чрезвычайно значимое положение.
В Слове 25 в славянской (а затем русской) версии Постнических Слов преподобного Исаака речь идет как раз о соотношении веры и разума в христианской сотериологии и гносеологии, взаимно соотнесенных, как подчеркнуто нами выше. «Несть укорен разум, но вера вышша его есть, — читаем мы здесь. — И аще укорим, то не разум укоряем; да не будет. Но еже разделити образы премененные (различные способы), в них же ходит сопротив вере и како с чины бесовскими сродствует»32. И далее — почти полная (посредством введения экзистенциала веры христианизирующая платоническую тему познания) аналогия палейному тексту об уме, в исступлении созерцающем благо (благостыню) всякой вещи: «И самый разум верою совершен бывает, и стяжевает силу взыти горе, и ощутити он(ый) образ, вышший всякаго чувства, и увидети зарю ону, непостижную умом, и разум (познание) тварей»33.
Обратим внимание на заключительную пару слов «разум тварей». Русский перевод с греческого С. И. Соболевского читается так: «видеть оный луч, неуловимый умом и ведением тварей», где «ведением», как и «умом», стоит в творительном падеже, что действительно соответствует греческому тексту в издании Никифора Феотокиса: «την ακαταληπτον τω νω και τη γνωσει (dativus) των κτισματων (genetivus)». Однако в славянском тексте Преподобного Паисия Величковского «разум (познание)» стоит в accusativus, что делает мысль преподобного Исаака вполне созвучной па-лейному тексту, где вся полнота реальности, включая вещественный, тварный мир, подлежит сверх-чувственному созерцанию, способному, в соответствии со славянским переводом 25 Слова, как «увидеть зарю ону» (что выше всякого ощущения), так и — «разум тварей».
Известно, что преподобный Паисий Величковский, наряду с греческим переводом Никифора Феотокиса (1770), пользовался еще какою-то греческой рукописью, а также принимал во внимание (в нашем случае, может быть, решающим образом) древние славянские переводы Постнических Слов преподобного Исаака Сирина.
Так или иначе, само расхождение с известным нам греческим текстом Постнических Слов делает особенно выразительным выбор славян в пользу преимущественного и универсального значения созерцательного (в данном случае — сверх-чувственно-го) способа познания.
Уже на исходе древнерусской традиции, в чем-то существенно разнореча с ее принципиальными посылками, кн. А. М. Курбский продолжает, однако, в своих комментариях к переводу Богословия преподобного Иоанна Дамаскина акцентировать значение созерцательного познания, как сверх-чувственного и универсального одновременно. «Словеснаго убо, — читаем мы в переводе, — ово зрительно (т. е. созерцательно), а другое делательно есть, зрительное убо по уму, понеже суть сущие (каково есть сущее); делательное ж по совету яж ему управляет делом правое слово». На полях к слову «зрительно» сказ (т. е. комментарий): «Ум человеческии, мудрые на двое разделяют, едину часть зрительным нарицают, который к чувствам ничесож имеет (припомним Палею. — А. М .), но о Бозе помышляет, и о бесплотных силах мечтает також и о созданных вещах и о животе будем (будущем) мыслит»34.
А. М. Курбский знал, конечно, что Диалектика преподобного Иоанна Дамаскина в теоретическую («созерцательную») философию включает не только богословие, но и физиологию с математикой, определяя притом физиологию как «познание материального и непосредственно нам доступного»35, но тем не менее склонен дополнительно (и в некотором диссонансе с уравновешенной системой преподобного Иоанна) подчеркнуть, что «ум... к чувствам ничесож имеет» (ср.: палейное «никако ж телесных требуя чувство») и, вместе с тем, «и о созданных вещах... мыслит».
К слову же «сущие» сказ: «рекше сущеи (т. е. существо. — А. М .) сущих зрит, сиреч нетленно и ум нетленных»36. Таким образом, князь Курбский здесь как будто восполняет и отчасти корректирует «гносеологию» преподобного Иоанна Дамаскина коснувшейся, кстати, и преподобного Исаака Сирина Ареопагитской традицией, которая была хорошо известна на Руси с ⅩⅠⅤ в.
В поздних текстах древнерусской словесности, несмотря на наращивание массы естественнонаучного материала, а иногда и в противоречии с ним, сохраняется все-таки значение «созерцательной» темы, а с нею и мотив «сверх-чувственного откровения» в познании. Так, известный нам в списках ⅩⅤⅡ в. трактат «О человечестем естестве, о видимем и невидимем», развертывая перед нами конкретно и широко детализированную картину физиологии человека, подчиняет ее при этом уму, действующему силою божественного озарения: «Ум царствуя и обладая всеми составы человеческими, видимыми и невидимыми, — говорится здесь. — Тои убо плотьскими очима гляда-ти управляет, и зримая разсуждает, и языком глаголати научает, и руками взимает, и зубами смилает. И ногам ступание исправляет, и всеми безсловесными страстьми и скоты обладает, четвероногая укрощает, и птицу послушанию научает, и в глубинах скоровертящуюся рыбу, в чащах же быстрозрительную серну уловляет, и много неис-четныя хитрости в души и телеси являет. Вся сия ум присещает божиим неизреченным мановением. Без того бо немощен есть, понеже безпрестани требует божественна-го посещения, и утверждения, якоже и семена требуют дождя небеснаго от Господа»37.
Сверх-Текст этой традиции «созерцательного богословия», когда «ум, — по слову преподобного Исаака Сирина, — научается созерцать в Боге, подобно Ему, а не как видим мы»38, — наряду с творениями сирийского подвижника, включает достаточно широкий круг святоотеческий писаний, где — еще раз подчеркнем — тема познания неразрывно связана с темой спасения, а значит, с характером устроения человеческого естества. «Совершенство святых», — пишет об этом преподобный Максим Исповедник, — обнаруживает себя и в том, «что не как мы — вещественно и пресмыкаясь по земле — созерцали и они, будь то тварь или Святое Писание, одним лишь чувством и видимостью, и образами (устремляясь) к восприятию блаженного познания Бога, пользуясь буквами и слогами, от чего обычно случается претыкаться и ошибаться в рассуждении истины, но одним лишь умом, чистейшим и избавленным от всякого вещественного мрака. Итак, если мы хотим благочестиво судить о тех, кто умно (νοητως) рассматривает логосы чувственных (предметов), то увидим их право шествующими прямым путем к познанию Бога и (вещей) божественных»39. «Умное рассмотрение чувственных» соответствует, согласно преподобному Максиму, тому заданию, которое изначально усвоено было человеку в отношении к видимой твари. «Ибо, — отмечает святой отец, — она (т. е. видимая тварь. — А. М.) становится учительницей страстей для воспринимающих ее телесно, навлекая на них забвение (вещей) божественных. Потому-то, вероятно, Бог и запретил человеку вкушение ее (здесь видимая тварь отождествляется у преподобного Максима с древом познания добра и зла. — А. М.), отлагая это на время, дабы человек прежде — что было весьма справедливо — познал через благодатное причастие Причину свою и через такое вкушение укрепил данное (ему) по благодати бессмертие в бесстрастии и непреложности, а потом уже, став как бы богом в силу обожения, безвредно и в безопасности вместе с Богом созерцал творения Божии и получил ведение о них как бог, а не как человек, имея по благодати одно и то же с Богом премудрое познание сущих, благодаря претворению ума и чувства к обожению»40.
Эта линия так понимаемого созерцательного богословия, платонически окрашенная в своем собственно гносеологическом компоненте, идет от Евагрия Понтийского (изначально связанного с каппадокийским кружком) через Дионисия Ареопагита к Максиму Исповеднику, Исааку Сирину и, отчасти, Петру Дамаскину и, конечно, к нашим славянским переводам названных авторов.
Элементы созерцательного богословия или, скорее, представление о нем как о совершенстве, — сохраняется и на исходе древнерусской эпохи, в ⅩⅤⅡ столетии, — например, в Православном исповедании кафолической и апостольской церкви восточной, восходящем к Петру Могиле. Здесь о первозданном состоянии человека читаем: «Адам знал Бога совершеннейшим образом, сколько в то время ему даровано было, и сколько нужно было; а потому самому, что он знал Бога, знал он и все вещи через Него ˂...˃ он знал природу их не по какой-либо науке, но потому единственно, что мыслил и рассуждал о Боге и Его благости»41.
Возвращаясь к исходной для темы созерцательного — «в Боге» — познания его платонической основе, снова поставим вопрос о специфике традиции христианской и, особенно, древнерусской. Ответить на этот вопрос будет проще после того, как мы увидим, с чем существенно связано, чем должно быть подготовлено в опыте античной традиции созерцательное ведение (эпоптейя). Прежде всего, конечно, восхождение к созерцанию предвосхищается и сопровождается аскезой — отрешением от чувственного. Но тому же отрешению, кроме упражнений физического и нравственного характера, служит и известная интеллектуальная дисциплина.
Как излагает неоплатоник Порфирий метод Пифагора, «уже очищенному уму надо позаботиться о некоторых полезных вещах. И Пифагор изобрел определенные способы, с помощью которых ум может это осуществить: сперва он незаметно направлял его к созерцанию бестелесных, вечных и родственных уму вещей, которые всегда пребывают в тождестве и одинаковым образом, и продвигался в этом направлении небольшими шагами, боясь, как бы из-за внезапного и резкого потрясения ум не отвратился и не отказался, поскольку полученное им в течение долгого времени образование столь плохо. И как раз с помощью занятий науками и умозрений, направленных на то, что между телесным и бестелесным... он подготавливал мало-помалу к истинно-сущему, приводя силой научного метода очи души к желанию вещей неизменных и отвращая при этом от вещей телесных, которые никогда не бывают в тождестве, никогда одинаковым образом и в том же состоянии, и всегда движутся. Благодаря этому, приводя людей к созерцанию истинно-сущего, он делал их блаженными. Упражнения в науках (η...περι τα μαθηματα γυμνασια) служили у него именно этой цели»42.
У Платона это «занятие науками» приобретает более систематический характер. Искусство счета, геометрия, астрономия, музыка предваряют у него восхождение в область умопостигаемого, подготавливают к этому восхождению, увенчиваясь диалектикой, ибо только тогда, «когда кто-нибудь делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не постигнет сущности блага»43. А в конце концов, «один лишь диалектический метод придерживается правильного пути: отбрасывая предположения, он подходит к первоначалу с целью его обосновать; он потихоньку высвобождает, словно из какой-то варварской грязи, зарывшийся туда взор нашей души и направляет его ввысь, пользуясь в качестве помощников и попутчиков теми искусствами, которые мы разобрали»44.
Впрочем, зрелый Платон подчеркнет, что опыт самого созерцания «не может быть выражен в словах, как остальные науки; только если кто постоянно занимается этим делом и слил с ним всю свою жизнь, у него внезапно, как свет засиявший от искры огня, возникает в душе это сознание и само себя там питает»45.
Еще определенней эту прерывность между научной, в том числе диалектической, школой и созерцанием блага проговаривает, например, уже упомянутый нами Порфирий. «Созерцание, дарующее нам счастье, — пишет он, — не есть собирание рассуждений или множества научных знаний, как кто-нибудь может подумать: созерцание не составляется из точных знаний, и преумножение рассуждений не преумножает его...»46
Однако свой служебный и в этом качестве необходимый характер «научные знания» все-таки сохраняют. Этот необходимый характер школы по-разному может быть интонирован, но коренится он, по-видимому, в свойственном платоническому представлению «сродстве» человеческого ума с божественным и тем самым в истолковании восхождения к эпоптейе как возвращение. «Ибо восхождение, — говорит Порфирий, — происходит не в иное, но в сущностно свое; не с иным, но с сущностно собой происходит единение природ»47. Поэтому, например, «для поздних неоплатоников, от Ямвлиха до Прокла, — как отмечает И. Адо, — умопостигаемый уровень математики точно соответствует умопостигаемому уровню разумной души»48. А таким образом «Божественное», по крайней мере до границы Единого, оказывается соразмерным «научному».
Это, так сказать, богословское и даже сотериологическое очарование античной школы оказало огромное влияние, к примеру, на раннего Августина. В своем сочинении De ordine (386) он писал: «Тот, кто будучи еще рабом страстей, жаждущим бренного, или уже избегающим этих вещей, живя целомудренно, но не зная еще, что такое небытие, что такое бесформенная материя, что приобрело форму, но не жизнь, что есть тело, что есть форма в теле, что есть место, что есть время, что такое «в месте», что такое «во времени», что такое движение относительно места, что такое движение безотносительно к месту, что есть устойчивое движение, что есть вечность (...), — тот, кто, не зная этого, захочет изучить и сделать предметом рассуждения не только высшего Бога, которого знают лучше, вовсе Его не зная, но и свою душу, будет бесконечно пребывать в заблуждении. Но тот, кто освоит числа простые и умопостигаемые, легче поймет эти вещи. Но постигнет их тот, кто в благорасположении ума, пользуясь свободой, даруемой возрастом или благоприятными обстоятельствами, воспламененный жаждой к учебе, будет следовать подобающей последовательности наук, о которых мы говорили»49.
Таким образом, «возращение души» — так в новоплатонических понятиях определяет ранний Августин спасение — «возможно только при двойном условии: вести добродетельную жизнь и обладать необходимыми знаниями»50.
Однако в конце жизни, когда Августин напишет свои Retractationes (Пересмотры, 427), «он будет раскаиваться в том, что так упорно настаивал на этих двух условиях, так как, говорит он (здесь), с одной стороны, многие святые весьма необразованны, с другой — в евангелии сказано, что Бог внемлет даже мольбам грешников»51.
Такая эволюция взглядов Августина на почве христианской традиции, конечно, вполне естественна. Ведь примерно там, где в корпусе античной культуры находится школа, в духовности христианской присутствует вера.
Если у Платона (Государство, 534) вера, в отличие от размышления, низведена в область мнения и становления, а не познания и сущности, то в христианстве вера, оставаясь в пространстве становления, истории, в нем именно осуществляет истину божественного присутствия. «Вера есть осуществление (υποστασις)», — говорит апостол Павел (Евр 11, 1). Залогом этого «осуществление чаемого» и «извещения невидимого» является не глубинная онтологическая сродность «нашего» с божественным, но нисхождение самого Бога в «наше», его Им восприятие и исцеление, — так, что, по слову Дионисия, Он «все наше от нас выше нас имел превосходным образом»52. Вера в христианстве — свершение истории, в то время как знание — в античной сотериологии — скорее мистерия единения природ, возвращения к «сущностно своему».
Комментаторы Толковой Палеи, если вернуться к древнерусской проблематике, как таковой, отмечают, что в то время, как «в античном понимании источником надчувственного знания была диалектика, логическое размышление и воображение, то в христианской системе координат источником знаний о явлениях идеального порядка объявлялось откровение»53.
Однако, как мы старались показать, особенность древнерусской духовности состоит в том, что сверхчувственный образ познания распространяется не только на «явления идеального порядка», но и на реальность «всякой вещи» или, как говорит преподобный Исаак Сирин, на «тайны Божией славы, сокровенные в естествах»54.
В связи с этим оказывается, что, например, область «естественнонаучного» в древнерусской культуре предельно сокращена или, что еще важнее, вписана в сферу сотериологических представлений и им непосредственно подчинена. «Владыка потому сказал: „Отче, Ты утаил от мудрых и разумных...“ — пишет составитель Толковой Палеи, — что древние философы, Платон и Аристотель и прочии витии много думали о небесном творении, но познания не получили; нам же сущим младенцам, (через) Евангелие Христово и Апостольское Предание Владыка открыл по своей благодати, что безначальный Вседержитель, во плоти пришедший от Девы Христос пришел к нам обоживая Собою человечество»55. Понятие о «небесном творении», в античной науке усвояемое астрономии, здесь непосредственно соотнесено с христианским Откровением о спасении человека и поскольку в такой именно соотнесенности не отзывается определенным смыслом — фактически квалифицируется как незнание («много думали, но познания не получили»).
Таким образом, если припомнить особенность рецепции византийского наследия Древней Русью, то минимальное присутствие и значение античного компонента задним числом, с учетом рассмотренного материала, выглядит уже не столько причиной, сколько следствием древнерусского выбора в пользу верою (а не школою!) предваряемого и осуществляемого созерцательного (сверх-чувственного) познания. Характерное для византийской культуры иерархически ориентированное различение — того, что «от веры», и того, что «от школы» — оборачивается в эсхатологически созерцательно окрашенном культурном сознании Древней Руси их противопоставлением.
Такое исконно доминирующее в древнерусской культуре противопоставление «веры» и «внешней мудрости», при некоторой актуализации элементов этой последней, — в ⅩⅤ‒ⅩⅤⅠ вв. приобретает характер отчетливой, хорошо продуманной и устойчивой позиции.
Знаменитое Послание псковского старца Филофея дьяку Мисюрю Мунехину «На звездочетцы и на латыни» так формулирует эту широко распространенную впоследствии позицию: «яз сельской человек, учился буквам, а еллинских борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни с мудрыми философами в беседе не бывал, учюся книгам благодатного закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от грех, о сем молю милостиваго Бога Господа нашего Исуса Христа и Пречистую Богоматерь и всех святых Богу угодивших, избавити мя вечнаго мучения»56.
Традиционный в христианской (в том числе византийской) литературе прием авторского самоуничижения приобретает здесь качество полемического противопоставления: веры — школе, судеб спасения души (сотериологии) — «внешней мудрости». «У Филофея, — отмечает Б. А. Успенский, — речь идет не столько о самоуничижении, сколько о принципиальном отказе от такого рода («внешних». — А. М. ) знаний — изучение гуманитарных наук поставлено здесь в контекст языческих умствований и признается делом сомнительным с религиозной точки зрения, „внешняя мудрость“ противопоставляется чистоте православного учения»57.
Кроме того, у Филофея названное противопоставление конкретизируется указанием на принципиально различный (в том и другом случае) характер обучения: «учился буквам, а еллинских борзостей не текох». Таким образом, школе семи свободных искусств противопоставлено принципиально не соприродное «обучение буквам», то есть чтению, и в целом книжное учение, как его понимали в Древней Руси58. «Чи не лепше тобе, — пишет во второй половине ⅩⅤⅠ в. исихастски настроенный преподобный Иоанн Вишенский, — изучити Часословец, Псалтыр, Охтаик, Апостол и Евангелие ˂...˃ и быти простым богоугодником и жизнь вечную получити, нежели постигнути Аристотеля и Платона и философом мудрым ся в жизни сей звати и в геену отити? Разсуди! Мне ся видит, лепше ест ани аза знати, толко бы хо Христа ся дотиснути, который блаженную простоту любит. ˂...˃ Скажите ми, премудрии, от ваших хитростей и художеств грама-тычных, диалектичных, рыторичных и философских, яким способом Христос простаком, ему последующим, отверзе ум разумети писание?»59
Опираясь на многочисленные, житийные в частности, свидетельства, крупный исследователь древнерусской образованности В. П. Виноградов утверждает, что «изучить грамоту или „извыкнуть грамоте“ и „навыкнуть Писанию“ были (в древнерусском сознании) понятиями тождественными»60. В Житии преподобного Сергия Радонежского понятие грамоты совпадает с понятием «учения книжного» или «книжного разумения». Уметь «всю грамоту», в этом смысле, значит понимать, помимо Часослова, «вся прочая святые книги» или «вся божественные писания»61.
При этом, как обучение грамоте сопровождалось молитвой, так «даже простое чтение церковных книг в старинном быту обставлялось обыкновенно так же, как богослужение, — отмечает, в частности, А. И. Яцимирский, — и читающий не только должен был проявить внимательность, но являться достойным божественной благодати сосудом для восприятия богооткровенной мудрости»62.
«Сказание о русской грамоте», восходящее предположительно к ⅩⅡ в., настаивало, «яко русский язык ни откуду прия веры святыя сия, и грамота русская никим же явлена, но токмо самем Богом Вседержителем Отцом и Сыном и Святым Духом...»63
А уже упомянутый ранее преподобный Иоанн Вишенский писал: «Словенский язык... ест плодоноснейший от всех языков и Богу любимший: понеж без поганских хитростей и руководств, се ж ест кграмматик, рыторык, диалектик и прочих коварст тщеславных, диавола въместных, простым прилежным читанием, без всякого ухищрения, к Богу приводит, простоту и смирение будует и Духа Святого подемлет...»64 В этом понятии о «простом прилежном чтении», которое «без всякого ухищрения приводит к Богу», несомненно, отзывается получившая исихастское преломление древняя монашеская практика «молитвенного размышления» (μελετη) — вникания посредством повторения и духовного проживания вглубь смысла кратких речений священного Писания. Так, святой Аммон, подвижник ⅠⅤ в., писал: «Душу свою всегда и непрестанно упражняй, насколько это возможно, в размышлениями над Писаниями, а после этого размышления усиленно плачь и молись. И если будешь пребывать в таком настроении мыслей, словно совершаешь непрерывно Богослужение, то бесы не найдут места в сердце твоем...»65 Понятие «размышления» (μελετη), отмечает А. И. Сидоров, «в аскетической письменности часто имело смысл непрерывного размышления над словами Писания и произнесения их речитативом вслух, которые органично перерастали в собственно молитву. ˂...˃ Постигаемое как деятельность и ума, и сердца, и воли, и телесного состава человека, μελετη формировало всю жизнь древних иноков, сопрягающих в единое духовное движение „чтение“, „размышление“, „молитву“ и „созерцание“. Поэтому жизнь их была своего рода «непрерывным Богослужением», центром которого являлось Священное Писание»66.
Имея в виду такое отношение к чтению, преподобный Исаак Сирин писал: «К словесам таинств, заключенным в божественном Писании, не приступай без молитвы и испрошения помощи у Бога, но говори: „Дай мне, Господи, приять ощущение заключающейся в них силы“. Молитву почитай ключом к истинному смыслу сказанного в божественных Писаниях»67.
Восприятие слова как носителя энергии, предполагая его конкретное в духовной собранности проживание, не допускает в пространство такого проживания слова какой бы то ни было, от него отчуждающей, рефлексии. Известное молитвенно-аскетическое правило, требующее заключить ум в словах молитвы, распространяется и на чтение Священного Писания или богослужебных текстов. Чтение, изъятое из своей живой и конкретной сопряженности с благочестием (переставшее быть почитанием), оказывается сродни феномену рассеянной молитвы в ее духовной бесплодности.
«Реалистический символизм»68 древнерусского языкового сознания, исходя из сближения чтения с молитвой, а текста с иконой69, опирался и на иконичность самого человеческого естества, сотворенного по образу Божию. В древнерусской словесности, начиная по меньшей мере с Толковой Палеи через Повесть о Петре и Февронии и далее, образ бытия Святой Троицы устойчиво проецируется на устроение человеческой души. Бог, пишет автор Повести о Петре и Февронии Ермолай Еразм, «на земли древле созда человека по своему образу, и ниже телесный вид разуме, ино мысленный, яже содетель от своего трисолнечного божества подобие тричисленно дарова ему: ум, слово, дух; иже пребывает в человецех ум, яко отец слову, слово же исходит от него, яко сын посылаем, на нем же дух почиет, ибо у коегождо человека изо уст слово без духа исходити не может, но дух со словом исходит, ум же начальствует»70.
Восходя в христианской традиции отчасти к апологетам, но главным образом к сочинению «Что значит по образу и подобию», приписываемому святому Григорию Нисскому71, через преподобного Анастасия Синаита, это сравнение бытия Святой Троицы с устроением души приходит на Русь, становится здесь излюбленным и переживается с особой проникновенностью.
Таким образом, в древнерусском понимании слово, в самом творении сообразующее человека Богу и в молитве это сообразие живо воспроизводящее и осуществляющее, — такое слово, без того чтобы утратить свой подлинный смысл, свою энергию, не может быть изъято из сакрального действа. Теоретическая рефлексия, отвлекающая сознание от конкретного аксиологически бесспорного сакрального текста к правилам устроения и функционирования языка, то есть тем самым к способам порождения текстов, не могла не настораживать древнерусских книжников. Ведь когда сакральные тексты перестают быть «образцами языковой правильности», сопряженной с вероисповедной безукоризненностью и ею как бы обеспеченной, когда таковая «правильность» вообще начинает увязываться не с текстами, а с правилами, тогда и сами «образцовые тексты могут правиться в соответствии с вновь разработанными грамматическими правилами»72. «Появление грамматик, — отмечает Б. А. Успенский, — свидетельствует о принципиально новом отношении к языку. В самом деле, грамматика в принципе задает правила порождения текста — при этом любого текста на данном языке, независимо от его содержания. Правила, как таковые, позволяют манипулировать смыслом — и тем самым моделировать мир. ˂...˃ Грамматика — это именно модель мира; как всякая модель, она позволяет порождать тексты, наполненные новым смыслом, в том числе и тексты, заведомо ложные по своему содержанию. ˂...˃ По заявлениям (же) древнерусских книжников, на церковнославянском языке вообще невозможна ложь — постольку, поскольку это средство выражения богооткровенной истины»73. В то время как гуманистически ориентированные носители восточно-славянской культуры в ⅩⅩⅠ в. в лице, например, Франциска Скорины, стремились доказать, что и самые библейские книги являются аналогом «семи свободных ис-кусств»74, в недрах древнерусской традиции в эту пору формируется более уравновешенная позиция, при которой подчиненное и сотериологически необязательное значение «человеческой науки» сохраняет за собой в этом своем качестве некоторое право на существование. Старец Артемий Троицкий в одном из своих Посланий середины ⅩⅤⅠ в. утверждает: «По чистоте бо ума когождо разумевает божественная тайна учения, а не человеческими науками. Очищает же ся ум съхранением Христовых заповедей, и елико в них искоснитъ съблюдая и научая присно, толико просвещается и приходит в свое естественное здравие. Якоже изначала създася от святыя едино-сущныя Троица, может бо истинное слово просветити и умудрити въ благое правым сердцем без грамотикиа (и риторикия). Яко же и божественнии (учат) мужие и сам Исус сие глаголет, не благоречие укаряюще, но сокровенное в нем лжесловие»75.
Так или иначе, онтологичности76 «от святой Троицы изначально созданного истинного слова» соревнует теперь аксиологическая неопределенность, амбивалентность речевого поведения, довольствующегося одной только грамматико-риторической нормой и поэтому не защищенного от «лжесловия».
Это соревнование — уже знак, а картина его исхода в ⅩⅤⅡ‒ⅩⅤⅢ вв., по существу, лик Нового времени, когда элементы древнерусской духовности, уже не в полноте традиции, войдут, не растворяясь окончательно, в новые, часто противоречивые отношения с условиями расцерковляемой культуры.
Источники и литература