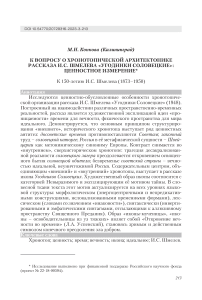К вопросу о хронотопической архитектонике рассказа И.С. Шмелева «Угодники соловецкие»: ценностное измерение
Автор: Коннова М.Н.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Исследуются ценностно-обусловленные особенности хронотопической организации рассказа И.С. Шмелева «Угодники Соловецкие» (1948). Построенный на взаимодействии различных пространственно-временных реальностей, рассказ является художественной экспликацией идеи «проницаемости» времени для вечности, физического пространства для мира идеального. Демонстрируется, что основным принципом структурирования «внешнего», исторического хронотопа выступает ряд ценностных антитез: досоветские времена противопоставляются Советам; законный труд - соловецкой каторге; Россия в её метафизической сущности - Швейцарии как метонимическому синониму Европы. Контраст снимается во «внутреннем», сверхисторическом хронотопе: трагедия десакрализованной реальности соловецкого лагеря преодолевается откровением освященного бытия соловецкой обители; безвременье советской страны - вечностью идеальной, неуничтожимой России. Содержательным центром, объединяющим «внешний» и «внутренний» хронотопы, выступает в рассказе икона Угодников Соловецких. Художественный образ иконы соотносится с категорией Невыразимого и эксплицирующим её мотивом тайны. В словесной ткани текста этот мотив актуализируется на всех уровнях языковой структуры: морфологическом (энергоцентричными и непредикативными конструкциями, нелокализованными временными формами), лексическом (словами со значением «инаковости»), синтаксически (инвертированными и эмфатическими синтагмами, отсылающими к аллюзивному пространству Священного Предания). Образ «иконы-мученицы», «иконы - освободительницы из уз тяжких» являет собой «Откровение вечности во времени» (Л.А. Успенский), становясь зримым и действенным символом конечного преодоления зла добром.
Хронотоп, ценность, время, вечность, икона, идеальное, и.с. шмелев
Короткий адрес: https://sciup.org/149143537
IDR: 149143537 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-213
Текст научной статьи К вопросу о хронотопической архитектонике рассказа И.С. Шмелева «Угодники соловецкие»: ценностное измерение
Сhronotope; value; time; eternity; icon; ideal; Ivan Shmeleff.
Каждое литературное произведение обладает собственной неповторимой архитектоникой – ценностно-обусловленным принципом в и дения и завершения мира [Бахтин 1986, 181]. Создаваемая автором художественная действительность является онтологически новым, ранее не существовавшим образованием: «это своеобразное эстетическое бытие, вырастающее на границах произведения путем преодоления его материально-вещной, внеэстетической определенности» [Бахтин 2003, 305].
* The study was financially supported by the Russian Science Foundation (project No. 2218-00594).
К числу важнейших измерений художественного мира относится его хронотопическая организация, отражающая сложный опыт освоения пространственно-временн о й реальности бытия. Ценностно окрашенные «приметы» времени и пространства [Бахтин 1975, 235], бесконечные в своем многообразии, пронизывают литературные произведения, придавая им философский характер, «выводя» словесную ткань на образ бытия как целого, на картину мира [Хализев 2002, 233].
Временн а я организация литературного произведения, запечатлевая индивидуальный опыт автора, имеет не только объективный, но и субъективный характер. Сама возможность художественного отражения времени свидетельствует о том, что «время – в человеке, а не человек во времени, и что время зависит от изменений в человеке» [Бердяев 1995, 263]. Темпоральное начало, пронизывающее художественную ткань литературного произведения, отличается множественностью проявлений. Событийное текстовое время, сопряженное с однонаправленным и необратимым линейным временем, внешним по отношению к тексту, и психологическим перцептивным временем, способно в некоторых моментах своего течения обретать вневременное значение. Это тем более естественно, что само осознание временности, быстротечности жизни, присущее человеку, порождено чувством сверхвременности, «не-временности» бытия и «родится лишь при взгляде во время из вечности» [Булгаков 2001, 312].
Целью настоящей статьи является исследование хронотопической архитектоники рассказа И.С. Шмелева «Угодники Соловецкие». В этом произведении, пронизанном «глубочайшим чувствованием иного мира, который вот тут близко, глядит и шепчет » [Шмелев 1998, 293], со всей отчетливостью выразилась центральная для позднего творчества писателя идея проницаемости времени для вечности.
Рассказ, созданный в июле 1948 г., во время пребывания писателя в Швейцарии, повествует о «чудесном проявлении» [Ильин 2000, 353] – обретении «лютеранином-швейцарцем» иконы в Соловецком лагере, его неожиданном освобождении и возвращении на родину. После завершения работы над произведением, 5 августа 1948 г., И.С. Шмелев сообщает И.А. Ильину: «Написал “Угодники Соловецкие”. <…> Дам – в новом варианте, более внятном для иностранцев, переводчице, для, может быть, “N.Z.Z.” [Neue Züricher Zeitung – М.К. ]. Да сомневаюсь, примут ли. Разные есть причины сего сомнения: об иконе речь. А для швейцарцев, – уверен, это было бы оч<ень> любопытно» [Ильин 2000, 355; выделение автора – И.С. Шмелева]. И чуть позже, оценивая проведенное в Швейцарии время, он отмечает: «…8-й месяц сижу на порожке. Но… эти месяцы прошли недаром, – хотя бы для того, чтобы я наскочил на “Угодн<иков> Солов<ец-ких>” – так я чувствую» [Ильин 2000, 355].
Заглавие произведения – именное сочетание Угодники Соловецкие – соотносит содержательное пространство рассказа с предельно широким хро-нотопическим контекстом. Прецедентное определение-топоним Соловецкие актуализирует сложные исторические смыслы. Мысль об иноческой обители русского Севера, основанной в 1436 г. на островах Белого моря, сопряга- ется в его семантической структуре с памятью о лагере особого назначения, возникшем в 1923 г. на месте разоренного монастыря. Слово угодники, вынесенное инверсией в сильную позицию начала, указывает на тех, кто, «угодив Богу святою, непорочною жизнью» [Даль 1956, 467], стали причастны «не-от-мирным энергиям» вечного Небесного Царствия [Осипов 1995, 18].
Денотативная отнесенность заглавия раскрывается в первом предложении рассказа: «Среднего размера образ, 30 на 26. Живопись тоже средняя, “палеховская”: писано, вероятно, иконописцем обители. Лики отчетливы, у каждого – свой характер. Слева направо: святой митрополит Филипп, священномученик; преподобные – Сергий и Герман, валаамские; Зосима и Савватий, соловецкие. Над ними, писанными в рост, – Господь Саваоф. Икона имеет свою историю: икона-мученица, икона-странница, а по вере одного лютеранина-швейцарца, уже покинувшего земной удел, икона – освободительница из уз тяжких» [Шмелев 2001, 422].
Слово образ обрамляют два близкозначных определения – атрибутивное сочетание « среднего размера » и уточняющая его нумеративная конструкция « 30 на 26 ». Прилагательное средний , повторяемое в своем прямом и переносном значениях в обращенной параллельной конструкции начальных предложений – « Среднего размера образ… Живопись тоже средняя …», оттеняет простоту, безыскусность иконы. В этой кажущейся «обыкновенности» иконы проявляется сокровенная природа святости, которая «есть то, что находится над обычным, и что в обычном является, выступая из себя своим светом, … своими светоносными энергиями» [Осипов 1995, 17].
Лаконичные эллиптические синтагмы, инвертированной структурой напоминающие синтаксис толковых иконописных подлинников, именуют тех, на кого указывает вынесенное в заглавие рассказа собирательное сочетание Угодники Соловецкие : «святой митрополит Филипп, священномученик ; преподобные – Сергий и Герман, валаамские ; Зосима и Савватий, соловецкие ». Цезуры, отделяющие номинативные конструкции, оттеняют своеобразие каждого из святых, параллелизм синтагм – их единство. Имена церковных л и ков – священномученик, преподобные – отсылают к реальности небесной, торжествующей Церкви. Семантика особенности, свойственная слову характер (ср. греч. χαρακτήρ «примета, знак»), подчеркивает индивидуальность святых, их неуничтожимую, вечно живую человечность. В наглядной конкретности запечатленных красками образов – «лики отчетливы » – приоткрывается онтологическая сущность иконы – зримого образа, дающего понятие о Незримом и Вечном [Лосский 1995].
Семантика ахроничности кратких безглагольных предложений соотносится с идеей непреходящего настоящего, в котором являет себя вечность – «всеобъемлющая, сразу данная полнота бытия» [Франк 1994, 549]. Формы именительного падежа передают значение безотносительной бытийности, актуализируя ситуацию непосредственного созерцания. Свойственная номинативным сочетаниям семантика агентивности имплицитно указывает на тех, кто выступает «источником» описываемых в рассказе событий.
Описание завершается интертекстуальным включением – изложением содержания надписи на иконе: «На тыльной стороне наклейка, померкшими чернилами: “Сию святую икону Соловецких угодников, на их святых нетленных мощах освященную, приносит Соловецкий архимандрит А… в благословение на гроб своей дочери девицы Анастасии, в этой обители погребенной, на вечное время. Мая 17 д. 1856, четверг А.А.”» [Шмелев 2001, 422].
Определение « померкшими чернилами » метонимически передает идею «овещественного» времени, сопрягая планы прошлого и настоящего. Текст надписи, данный в виде маркированной цитаты, вводит прямую речь дарителя иконы, « Соловецкого архимандрита А… ». Форма глагольного сказуемого приносит диалектически совмещает субъективное значение настоящего времени и объективное значение вневременности. Обособленное дополнение на их святых нетленных мощах освященную указывает на непосредственную, физическую связь иконы и изображенных на ней святых. Троекратный повтор корня свят- ( свят ую, свят ых, о свящ енную) эксплицирует присущее иконе «онтологическое пребывание вне здешнего» [Осипов 1995, 16].
Эмфатическое обстоятельственное сочетание на вечное время помещает судьбу иконы в максимально широкий контекст исторического и сверхисторического бытия, выражая мысль о конечной неизменности судьбы Соловецкой обители. Обстоятельство цели в благословение на гроб дочери раскрывает значение святого образа, служащего связующим звеном между миром земным и небесным, между живыми и почившими. Имя дочери, «девицы Анастасии» (греч. ἀνάστασις «воскресение») отсылает к тайне будущего века и «последнего свершения времен» [Лосский 2004, 305], когда «поглощена» будет «смерть победою» (1 Кор. 15: 54).
Точность завершающей текст даты – мая 17 д. 1856, четверг – сообщает дарственной надписи достоверность документального свидетельства прошлого. Актуализируя представления о невозвратно минувшей эпохе, хрононим « 1856 » косвенно указывает на личность дарителя. Архимандрит А. – Александр (Павлович; 1798–1874), принявший монашество после смерти супруги, был настоятелем Соловецкой обители в 1853–1857 г. и вошел в историю России как мужественный защитник Соловецкого монастыря во время его бомбардировки кораблями англо-французской эскадры в июле 1854 г. Память о совершившейся тогда победе имплицитно проецируется на события современного И.С. Шмелеву исторического настоящего, вводя мотив надежды на преодоление зла.
Финальное предложение начальной части рассказа оттеняет особенный характер иконы, обобщая и предвосхищая описываемые повествователем события: «Икона имеет свою историю: икона-мученица, икона-странница, а по вере одного лютеранина-швейцарца, уже покинувшего земной удел, икона – освободительница из уз тяжких» [Шмелев 2001, 422].
Категориальная семантика одушевленности, присущая составным личным именам «икона-мученица», «икона-странница», отсылает к онтологии образа. Материально-предметная сторона иконы – линии и краски – является частью видимого, осязаемого мира. Внутренняя, скрытая от физического зрения сторона – невидимое присутствие Первообраза – принадлежит к атемпоральному бытию иного мира. Персонифицирующие имена икона-мученица, икона-странница сопрягают судьбу иконы с судьбами сотен тысяч русских людей после 1917 г.
Противительный союз а , предваряющий третье звено восходящей градации – « а по вере одного лютеранина-швейцарца …», подчеркивает исключительность судьбы иконы. Частичная инверсия в заключительной именной синтагме – «освободительница из уз тяжких» отсылает к названиям чтимых в России икон Пресвятой Богородицы – «Споручница грешных», «Спасительница утопающих», «В скорбех и печалех утешение».
Начальная граница повествования намечается темпоральной обстоятельственной конструкцией, определяющий исторический контекст происходящего: « В 20-х годах века сего некий швейцарский подданный… был присужден к соловецкой каторге на десять лет, как “паразит” советской страны. В досоветские времена был он биржевой маклер, лицо, так сказать, законное, совершаемых на бирже сделок» [Шмелев 2001, 422–423]. Анафорическое противопоставление двух обстоятельственных конструкций «в 20-х годах» и «в досоветские времена» высвечивает контраст между двумя модусами существования главного героя: планом прошлого – жизнью биржевого маклера, «законного лица», и планом настоящего – заключением на «соловецкой каторге» как «паразита» «советской страны».
Семантика инаковости, присущая кореферентным именам швейцарский подданный , чужестранец и определениям сведущих в чужих языках , по иностранной части , подчеркивает непричастность героя к происходящему в Советской России, одновременно имплицируя мысль о его беззащитности и ненужности. Стилистический контраст юридически точного термина швейцарский подданный , маркирующего реальность Российской империи, и уничижительного прозвища « паразит советской страны» высвечивает разницу временных планов – прошлого, «законного», и настоящего, бесправного. Десакрализованный характер «советских времен» оттеняет смещенное, суженное употребление прецедентного топонима Соловки в сочетаниях «соловецкая каторга», «привезли его на Соловки».
Начальная грань иного, «не-лагерного» темпорального пространства намечается местоименным наречием как-то : «Проходил он как-то в свободный час под монастырем и видит: в стороне от дороги, в грязи, валяется дощечка . Подумал, – на подтопочку сгодится. Поднял дощечку , смотрит – икона, расколота: два лика только, расколота ровно чем-то острым, по-видимому – штыком: две полудырки – в самом верху и в самом низу: совершенно ясно, что верхняя часть одного удара и нижняя часть другого пришлись в воздух. На тыльной стороне – половинка наклеенной записки <…> Что-то , в мыслях, велело: “взять, сберечь!” И он спрятал дощечку под фуфайку» [Шмелев 2001, 423-424].
Наречие как-то, традиционно используемое в составе зачина для введения ремы, выделяет описываемое событие из череды привычных действий. Соловецкой каторге противопоставляется освященное пространство монастыря, в котором разворачивается чудесное событие, изменяющее жизнь главного героя. В реальном, зримом страдании святыни, обретаемой героем в уничиженном, поруганном виде – «расколотой», лежавшей «в стороне от дороги, в грязи», ощутимо являет себя господство разрушительного, небытийного начала в обмирщенном, десакрализованном мире.
С обретением иконы в пространство повествования входит новое начало – невидимое, но активно действующее. Субъект действия передается неопределенным референтным местоимением что-то : «Вскоре ему случилось проходить монастырским кладбищем, еще не вовсе срытым. И вот видит: мотается на венке, на могильном кресте, на проволочке, дощечка. Что-то толкнуло его подойти взглянуть… и, к удивлению своему, узнает он другую половинку расколотой иконы! Не думая ни о чем, высвободил он из проволочной петли ту дощечку и видит еще три лика…» [Шмелев 2001, 424].
Обретение второй половины иконы сопрягается с образом Креста («… мотается на венке, на могильном кресте …»), что максимально расширяет границы хронотопа, сообщая ему вневременн о е измерение. Крест – символ победы над властью греха и смерти – являет собой и свидетельство предельного уничижения, умаления Бога. Мотив безвинного страдания, средоточием которого выступает образ Креста, сочетается в описании святой иконы с идеей соучастия, сострадания.
Введение форм настоящего исторического глаголов в и дения в череду предикатов прошедшего времени («Проходил… и видит », «Поднял дощечку, смотрит …», «случилось проходить… “вот видит ”», «толкнуло его подойти… и… узнает », «высвободил… и видит ») прерывает, как бы останавливает повествование. Это придает изображаемому наглядность, оттеняя предельную ценность того, что открывается взгляду героя. Сигнализируемое настоящим историческим перенесение прошлого в настоящее, имплицирует мысль о преодолении границ временн ы х планов, происходящем в момент соприкосновения с иконой.
Категориальная семантика энергоцентричности, присущая предикату случилось , имплицирует неконтролируемость, непроизвольность событий, совершающихся «помимо воли человека» [Петрухина 2009, 87]. Логическая необъяснимость происходящего, его конечная непознаваемость передается эпитетом странный – странность («необычный, удивительный»): «Тут в нем прояснилось нечто, мелькнуло мыслью – “ какая странность !., указание, – что ли..?” – и он уже сознательно взял эту половинку. Что он чувствовал от этой “ странной ” находки, – неизвестно: он не рассказывал о чувствах. <…> Одно только было в мыслях, – впоследствии признавался он, – что “это не случайно”. И решил – “непременно хранить эту икону”. А зачем… – не знал и предположений не высказывал <…> Икону, конечно, расколол какой-то кощунник, из тех… <…> Упавшую половинку кощунник зачем-то понес с собой и… швырнул в сторону от дороги. Почему же швырнул? почему оставил другую половинку?.. почему не уничтожил “опиум”?.. Этого никто не знает. Словом – швырнул… – “а я вот ее нашел!..” И вот эта “ странность ”, что кощунник не истребил икону, а он, чужой всему этому, нашел ее в разных совсем местах… – вызывала в нем “разные вопросы”. Вызывала – и… “как-то укрепляла”. Для него становилось ясным, что – “это не случайно”» [Шмелев 2001, 426–427].
Экспрессивность троекратного повтора вопросительных синтагм в восходящей градации (« Почему же?.. почему ?.. почему …») усиливает категоричность двойного отрицания: «Этого никто не знает», лаконичность которого высвечивает ключевой для рассказа мотив необъяснимости происходящего. Противоречивая «странность» становится залогом осмысленности совершающихся с главным героем событий («Это не случайно»). Осознание «неслучайности» обретения иконы предстает источником надежды («странность… “как-то укрепляла”). В этом добровольном отказе от логического обоснования происходящего являет себя первый опыт веры как «непытливого согласия» [Григорий Богослов 2007, 21] – убеждения в реальности бытия иного мира – не нейтрально-пассивного, но соучаствующего, сострадающего.
Необъяснимо-неслучайным становится освобождение героя из соловецкого лагеря: «Прошло два с половиной месяца. Была осень 1928 года. И вот вызывают его в “управление”, и начальник объявляет ему приказ: “Забирай свое барахло!” Он страшно испугался. <…> И никто не предположил, что это – конец каторге <…> Кто мог бы за него похлопотать?.. Никто <…> Никого не было, кто мог бы похлопотать » [Шмелев 2001, 427– 428]. Эмфатический повтор местоимения никто в параллельных синтагмах акцентирует мысль о конечной беспомощности обычных, «естественных» средств спасения.
Человеческому безразличию противопоставляется деятельное участие в судьбе героя мира невидимого, являющего себя в обретенной иконе: «Швейцарец стал собирать свое барахло, увидел свою находку и… – “что-то мелькнуло в мыслях, стал разглядывать лики угодников соловецких”. Строго они смотрели – “будто в себя смотрели, что-то тая в себе”» [Шмелев 2001, 427].
Момент первого осознанного созерцания иконы – «что-то мелькнуло в мыслях, стал разглядывать лики угодников соловецких» – занимает в композиционной структуре рассказа центральное, кульминационное положение. Физическому в и дению, поверхностный характер которого подчеркивается глаголом разглядывать , противопоставляется сокровенная непознаваемость иного мира. Метафора глубины – «словно в себя смотрели» – отсылает к тайне святого образа. Природа этой тайны иносказательно раскрывается метафорами света: «тут в нём прояснилось нечто, мелькнуло мыслью…», «что-то мелькнуло в мыслях <…> Но это лишь мелькнуло , не выразилось мыслью…». Энергоцентричный характер предикатов «мелькнуло», «прояснилось» эксплицирует внеположенность источника откровения. Многократный повтор глагола мелькнуть , передающего идею мимолетного движения с неизвестными точками начала и конца, имплицирует мысль о свободе Того, Кто, открывая человеку истины, делая их «внутренне очевидными, явными, почти осязаемыми – остается тем не менее как бы сокрытым» [Лосский 2004, 209]. Ответом героя на откровение становится действие: «Расколотые половинки иконы он запрятал на дно мешка, в лохмотья. Их не дощупались» [Шмелев 2001, 428].
Путь в Швейцарию становится для главного героя прощанием с прежним, «давным-давно» знакомым ему миром, куда приехал юношей «искать счастья»: «Было это – “как сон”. Двинулся он пешком, на Гатчину, таща свое барахло в мешке. Погода была – золотая осень. И было это великое путешествие для него – “самым радостным путешествием за всю жизнь”, – и самым легким, “будто несло на крыльях”. Питался спелой брусникой – много было ее! – и была она ему слаще сахара. Пек рыжики и волнушки на угольках – и казались они ему “несравненными ни с чем по вкусу”. И странно: “Не хотелось с Россией расставаться!” Смотрел на золотые березы большака и говорил с грустью: “Прощайте, милые!..” А они роняли на него золотые листья. Подвозили его суровые русские мужики, жалели. <…> Помнил швейцарец, как один старик… сказал: “Ну, ничего… таперича до своего добьешся, молись Богу” <…> Помнил “радостную реку Лугу”: радушно приняли его русские рыбаки <…> Ласково проводила его Россия <…> Проводила его Россия лаской”» [Шмелев 2001, 429–430].
Череда форм превосходной степени (« самым радостным», « самым лёгким», « слаще сахара », « несравненными ни с чем ») предваряет кульминационное восклицание, в котором впервые звучит имя прежнего мира – слово-символ Россия , противостоящее обезличивающим топонимам « советская страна », « Советы ». В пространстве памяти, намечаемом повтором предиката « помнил », образ России создается константами «природа» («золотые русские березы ») и «человек» (« русские мужики », « русские рыбаки »), которые объединяет общая идея радости (« рад остную реку», « рад ушно приняли»). Дважды повторяемая в сильной, финальной позиции метафора-олицетворение «Ласково проводила его Россия … проводила его Россия лаской» высвечивает присущие слову ласка синкретичные со-значения «милость», «любовь».
Возвращение героя в Швейцарию становится живым свидетельством о чуде: «Вернулся он в родной Цюрих. Оставались еще какие-то родные, дальние. Подивились “выходцу с того света”. Он рассказал им свою историю. Показал им икону: “она вывела меня из ада!” – так и сказал. Но они не поверили. Наводил справки, кто же похлопотал о нем. Не мог ничего узнать: не знали и в самом Берне. Но ему казалось, что он теперь знает все» [Шмелев 2001, 430]. Пережитое героем в момент освобождения неясное предчувствие чуда сменяется самоочевидностью знания, предельный характер которого подчеркивает определительное местоимение всё («…он теперь знает всё»). Это знание-убеждение принимает форму открытого исповедания: «Она вывела меня из ада!».
Глубина внутренней жизни души главного героя оттеняется параллельным повтором синтагм с подлежащим – отрицательным местоимением никто – и созвучными предикатами видел – ведал: «Молился ей?.. Этого никто не видел: никто не ведал, что теперь стало в его душе». Не передаваемая словом, благоговейно хранимая тайна отчасти приоткрывается действием: «…почётно хранил икону “на полочке”, как православные». Обстоятельство «на полочке» метонимически указывает на традиционный для русских домов красный угол, имплицируя мысль о том, что становится для героя главной – Абсолютной – ценностью. Смещенный эпитет «почётно хранил», однокоренной глаголам чтить – чествовать, актуализирует идею почитания-молитвы. Ее передает и предикат хранил, сквозь конкретно-акциональное значение которого («беречь») просвечивают эмотивно-аксиологические смыслы («сохранять, верно исполнять, Храни заповеди Господни» [Даль 1956, 564]).
Обретенной героем вере противопоставляется отрицающее саму возможность чуда неверие его швейцарских родных: «Но они не поверили <…> Русская благочестивая женщина, рассказавшая мне эту историю, знала этого швейцарца. На ее просьбы отдать ей икону эту – она предлагала ему деньги, – швейцарец решительно ответил: “Ни за что!.. Она вывела меня из ада! Но вы после моей смерти ее получите”. И она, действительно, получила ее. <…> Ей сказали: “Возьмите икону, которую он вынес из России… нам она не нужна”» [Шмелев 2001, 430–431]. Сопряжение местоимения он с именами икона – Россия на фоне антитезы «он – мы» указывает на сопричастность героя судьбе России – не физическому только пространству, но, скорее, тому идеальному миру, который простирается за пределы видимого бытия, преодолевая границы настоящего и будущего, жизни и смерти.
Эпилог рассказа, имеющего кольцевую композицию, возвращает читателя к началу произведения – созерцанию повествователем святого образа. Статичность, характерная для начальных строк рассказа, сменяется динамикой диалога, собеседниками в котором являются повествователь («я») и те, чьи «строгие лики» видит он на иконе: «Я вглядывался в строгие лики угодников соловецких, и они многое мне сказали. В этом, ими потайно сказанном, я постиг, что они вернутся в свою обитель. Вернутся по воле Божией. Думалось мне, когда я вглядывался в лики: “Не втуне написал неведомый архимандрит А. ʻна вечное времяʼ: они вернутся”» [Шмелев 2001, 431–432].
Молитва, образ которой благоговейно скрыт за метонимическим синонимом «вглядывался», вызывает ответ – «и они многое мне сказали». Троекратный повтор утверждения «они вернутся» образует восходящую градацию. Её первое звено – «они вернутся в свою обитель » – указывает на восстановление освященного бытия, в котором место страданий («соловецкая каторга») вновь становится местом молитвы («обитель»). Во втором звене градации обстоятельство причины – «вернутся по воле Божией » – задает телеологическую ось координат, при соотнесении с которой разрозненные планы прошлого, настоящего и будущего обретают единство. Имплицируемая рематическим положением обстоятельства антитеза «воля человеческая» – «воля Божия» высвечивает эсхатологическую перспективу происходящего, напоминая о совершенстве Промысла Того, Кто произвел всё из небытия в бытие, и Которым всё живет, и движется, и существует (ср. Деян. 17: 28). Заключительное утверждение – «они вернутся» – придает завершению рассказа широту предельного обобщения.
Темпоральная семантика предиката вернутся, не уточняемая лексическими маркерами, соотносится с будущим историческим, и, одновременно, размыкается в будущее вневременное, открывая перспективу вечности. Местоимение дальнего дейксиса они указывает на все то, что было исключено из десакрализованного пространства «советской страны», но остается неуничтожимой частью России. Определяемая как «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1), вера предстает отказом от поиска опоры в земных вещах и утверждением в Боге как бытии Абсолютном и вечном.
Проведенное исследование позволяет заключить, что хронотопиче-ская архитектоника рассказа И.С. Шмелева представляет собой сложное взаимодействие различных пространственно-временных реальностей. Событийный ряд произведения разворачивается в микромире личного бытия героя, которое, охватывая ключевые этапы человеческой жизни (юность – зрелость – смерть и ее преодоление), сопрягается с историческим существованием макромира в его прошлом, настоящем и будущем. Пространственные координаты повествования, усиливающие символическое значение его временных вех, эксплицируют череду ценностных антитез: Петроград (столица Российской империи) – Ленинград (прецедентное имя эпохи); Соловецкая обитель (освященное бытие) – соловецкая каторга (десакрализованная действительность); Россия (в ее непреходящей, идеальной сущности) – Швейцария (символ «нейтральной», не затронутой политическими потрясениями Европы).
Единство разрозненных хронотопических планов восстанавливается в образе иконы, являющей собой средоточие повествовательной структуры произведения. Икона Угодников Соловецких , самим своим «неотразимым бытием» свидетельствующая о реальности иного мира [ср. Митрополит Вениамин 2010, 316], приоткрывает таинственное присутствие Невыразимого в земной действительности. События прошлого и настоящего сопрягаются с планом будущего и размыкаются в атемпоральное пространство вечного бытия. С обретением иконы, выражающей невидимое и делающей его «реально присутствующим, видимым и действующим» [Лосский 2004, 245], жизнь главного героя преображается через сопряжение с Абсолютной ценностью.
Список литературы К вопросу о хронотопической архитектонике рассказа И.С. Шмелева «Угодники соловецкие»: ценностное измерение
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 444 с.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М.: Русские словари, 2003. 960 с.
- Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря. М.: Республика, 1995. 375 с.
- Булгаков С.Н. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. 672 с.
- Григорий Богослов, святитель. Творения: в 2 томах. Т. 2. М.: Сибирская благозвонница, 2007. 943 с.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 томах. Т. 4. М.: ГИС, 1956. 483 с.
- Ильин И.А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1947–1950). М.: Русская книга, 2000. 528 с.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев: Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2004. 504 с.
- Лосский В.Н. По образу и подобию. М.: Изд-во Свято-Владимирского братства, 1995. 196 с.
- Митрополит Вениамин (Федченков). Всемирный светильник. Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца. М.: ДАРЪ, 2011. 464 с.
- Осипов А.И. Святые как знак исполнения Божия обетования человеку // Русское возрождение. 1995. № 62. С. 9–32.
- Петрухина Е.В. Русский глагол: категории вида и времени в контексте современных лингвистических исследований. М.: МАКС Пресс, 2009. 207 с.
- Франк С.Л. Смысл жизни// Смысл жизни. Антология. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 489–583.
- Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2002. 438 с.
- Шмелев И.С. Записки неписателя // Шмелев И.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. М.: Русская книга, 1998. С. 289–322.
- Шмелев И.С. Угодники Соловецкие // Шмелев И.С. Душа Родины: Избранная проза. М.: Паломник, 2001. С. 422–432.