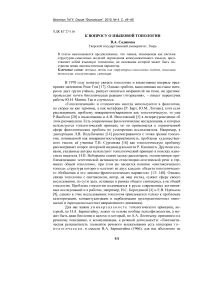К вопросу о языковой топологии
Автор: Садикова Валентина Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье высказывается предположение, что топика, понимаемая как система структурно-смысловых моделей порождения коммуникативного смысла, представляет собой языковую топологию, на основании которой может быть построена новая лингвистическая парадигма.
Топика, топы как структурно-смысловые модели, языковая топология, коммуникация, ситуация
Короткий адрес: https://sciup.org/146121763
IDR: 146121763 | УДК: 81?
Текст научной статьи К вопросу о языковой топологии
В 1970 году попытку связать топологию и языкознание впервые предпринял математик Рене Том [17]. Однако «работа, выполненная на стыке интересов двух групп учёных, рискует оказаться непринятой ни теми, ни другими: происходит почти биологическая реакция отторжения», – пишет переводчик работы Ю.И. Манин. Так и случилось.
«Топологический» и «топология» иногда используются в филологии, но скорее не как термины, а как метафоры [Р. Барт, Ю.М. Лотман], хотя если рассматривать проблему инвариантов/вариантов как топологическую, то уже Р.Якобсон [20] в языкознании и А.Н. Веселовский [5] в литературоведении об этом размышляли. Есть современные филологические исследования, в которых используется топологический принцип, но он применяется к ограниченной сфере филологических проблем по усмотрению исследователя. Например, в диссертации Л.В. Полубиченко [14] рассматриваются с точки зрения топологии, понимаемой как инвариантность/вариативность, проблемы художественного текста; её ученица Т.В. Сурганова [16] как топологическую проблему рассматривает вопрос авторской индивидуальности Р. Киплинга. Другими словами, указанные авторы используют топологический принцип в поисках идио-стиля писателя. Н.П. Неборсина ставит целью рассмотреть «когнитивную про-блематизацию эстетической активности стихотворно-поэтической речи в терминах общей топологии», при этом ею вводится понятие «синтаксического топоса», структура которого «состоит из двух классов: объекта топологического обобщения и его лексико-фразеологических вариантов» [13: 140]. Однако, связав топологию с синтаксисом, автор, на наш взгляд, сужает сферу своего исследования, по сути дела, оставаясь в рамках общего синтаксиса, а не общей топологии. Проблема топологии поднимается в русле современных когнитивных исследований и в работах, например, И.С. Бороздиной [4] и Е.В. Идельсон [9], однако в этих исследованиях топология привлекается только к проблемам категоризации, концептуализации и вербализации пространственных отношений и дирекциональности (направленного движения).
Для нас важна ун ив ер с альн о с ть топологического принципа, который, по Н.А. Бернштейну, лежит «в основе вообще психофизиологии, а может быть даже биологии в целом» и который, по А.А. Леонтьеву, применим и к речевому поведению, к коммуникации, к речевой деятельности: «Лингвистическая релевантность элементов речевого высказывания есть категория топ о л огиче ская , в смысле Н.А. Бернштейна (1966): для нас абсолютно не важна “метрика”, не важно абсолютное перцептуальное тождество, скажем, слова, но зато важно сохранение его “схемы”, которая может видоизменяться, оставаясь самой собой, и может “наполняться” разным содержанием» [11: 31].
На протяжении всей истории человечества в человеческом сознании формировались не только «схемы» слов, но и типовые смысловые матрицы, метакатегории-топы, которые могут использоваться для анализа процесса коммуника ции , потому что осуществляют единство актуального бытия ситуации общения, актуального языка-речи, реализующего актуальные цели и мотивы, и актуального спонтанного мышления в сложившейся ситуации. Это обеспечивается их изначально диалектической природой.
Аристотель первым попытался исчислить смысловые матрицы , которые он определял как «категории числом десять»: «Из слов, высказываемых без какой-либо связи, каждое означает или сущность , или качество , или количество , или отношение , или место, или время , или положение , или обладани е , или действие , или страдание » [1: 78]. Эта исчислимость заслуживает особого внимания. Ведь и сегодня к категориям и топике Аристотеля постоянно обращаются. Например, рассматривая систему «местоимённых смысловых исходов» Н.Ю. Шведовой [18], Ю.Л. Воротников подчёркивает, что эта система «имеет старшего брата в лице системы философских категорий Аристотеля» [6: 51].
«Замкнутый список исходных, глобальных категориальных яз ы к о-вых смыслов и незамкнутое множество смыслов, поставляемых говорящим для языкового выражения, не вступают в противоречие <…>. Система исходных языковых смыслов достаточно гибка, чтобы позволить говорящему реализовать любые его смысловые интенции. Можно сказать, что язык в смысловом отношении соразмерен человеческому мышлению» [там же].
Конечно, соразмерен! Но понять и исследовать эту систему можно только в том случае, если опираться на единицы, которыми может измеряться (соизмеряться!) и язык, и мышление, и речь, а в конечном итоге – коммуникация. Местоимённые исходы Н.Ю. Шведовой, по большому счёту, недостаточно глобальны. Но топика, понимаемая как система структурносмысловых моделей порождения коммуникативного смысла в процессе общения, на наш взгляд, вполне соответствует статусу «глобальных категориальных языковых смыслов», если отмежевать её от топики, понимаемой как «общие места» в риторике.
Принципиальные различия топов как общих мест и топов как структурно-смысловых моделей (далее - ССМ) кратко представляем в таблице.
Понимание топики как системы структурно-смысловых моделей позволяет выделить в языке топологические компоненты и - в дальнейшем - говорить не только о языковой топологии, но и о топологии лингвистической. Выявление языковой топологии представляет собой первый этап исследования (без неё невозможен этап второй), она присуща самому языку. Лингвистическая топология выстраивается на основании языковой топологии как новая лингвистическая парадигма, и это дело будущего. Мы рассматриваем яз ыко-вую топологию, основанную на топике как системе структурно-смысловых моделей порождения коммуникативного смысла в процессе общения, потому что язык топологичен по своей природе.
Таблица
|
Топосы |
Топы как ССМ |
|
Общие места, этико м емы , существующие в сознании общающихся в виде нравственных констант, сознательно используемые в качестве аргументов |
Структурно-смысловые модели, существующие в ментальном пространстве общающихся и используемые в спонтанном общении на неосознаваемом уровне |
|
Имеют бесчисленное множество в ар и-антов |
Представляют собой исчислимое количество инвариантов |
|
Выражают определённый смысл, как правило, в виде законченных предложений; не зависят от ситуации общения |
Порождают и структурируют коммуникативный с мысл в процессе общения |
|
СТАТИЧНЫ |
ДИНАМИЧНЫ |
Как структурно-смысловые модели формирования коммуникативного смысла в процессе общения топы имеют такие качества, как неизменность (инвариантность), непрерывность ( связность - применительно к языку и речи -аналог осмысленности и логичности) и ориентируемость в ситуации общения, которые и обеспечивают топике статус языковой топологии.
Если пользоваться терминологией Ю.Л. Воротникова и Н.Ю. Шведовой, можно сказать, что ТОПЫ как ССМ - это исходные, глобальные категориальные языковые смыслы, а «незамкнутое множество смыслов», образуемое говорящими в процессе общения - это коммуникативные смыслы, которыми уже в речи, в процессе общения, реализуются интенции общающихся.
Нами определена система из 20 категорий, прототипом которой можно считать топику, предикабилии и категории Аристотеля; эта система динамически и рекурсивно функционирует на стыке Языка, Мышления и Бытия и обеспечивает взаимопонимание людей в процессе коммуникации. Опираясь на исторические корни, с одной стороны, и на наблюдение как ведущий методический приём исследования современной коммуникации, с другой, мы полагаем этот список исчерпывающе исчислимым: ИМЯ, ОБЩЕЕ (АБСТРАКТНОЕ) и ЧАСТНОЕ (КОНКРЕТНОЕ), РОД и ВИД, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛОЕ и ЧАСТИ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (места, времени, цели), СВОЙСТВА (ПРИЗНАКИ, КАЧЕСТВА), ДЕЙСТВИЕ и СТРАДАНИЕ (ПРЕТЕРПЕВАНИЕ, испытание воздействия), ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ, СРАВНЕНИЕ, СОПОСТАВЛЕНИЕ, ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ (ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ), ПРИМЕР, СВИДЕТЕЛЬСТВО, СИМВОЛ. Их исчислимость обусловлена, с одной стороной, историческим опытом формирования человеческого сознания как человечески универсального; с другой стороны, производился их отбор - постепенный, бессознательный (потому что человеческое сознание, по большому счёту, саморегулирующаяся система) - на основании коммуникативных потребностей людей в процессе общения. На этом основании включённые в список глобальных структурно-смысловых матриц категории мы можем с полным правом полагать коммуникативными категориями [15].
Если следовать продуктивной идее, принадлежащей А.А. Залевской, о разделении знания на индивидуальное (ИЗ) и два вида коллективного знания: КЗ1 – cовокупное коллективное знание/переживание как достояние лингвокультурной общности и КЗ2, отображающее лишь «зарегистрированную» в продуктах деятельности часть коллективного знания [8], то становится понятным, что практически все лингвистические исследования направлены на изучение КЗ2, реализованное в текстах , а КЗ1 и ИЗ, которые реализуются и проявляются прежде всего в коммуникации , часто остаются вне внимания специалистов.
В поисках методов, пригодных для изучения ИЗ и КЗ1, мы и обращаемся к топике и топологии, внутренне связанным , которые могут обеспечить новую методологию, пригодную для исследования не только (и не столько) продуктов деятельности (в том числе, речевой), но и пр о цесса их получения, пр о цес са самой деятельности-коммуникации-взаимодействия, ведомого языковым сознанием коммуникантов.
Не все учёные полагают это возможным. В.А. Маслова пишет: «Е.Ф. Тарасов считает, что языковое сознание нельзя анализировать в момент протекания процессов, его реализующих. Оно может быть исследовано только как продукт прошедшей деятельности, т.е. может стать объектом анализа только в своих превращениях, отчуждённых от субъекта сознания формах культурных предметов и квазипредметов [19]. С этим трудно согласиться, так как такой подход в некоторой мере противоречит деятельностному подходу, при котором процесс важнее, нежели результат » [12].
В современном философском словаре есть определение, указывающее на смысловую близость терминов топика и топология : «ТОПИКА (греч. topos – место) – техника пространственной организации мышления и понимания, а также организованное на её основе мыслительное пространство » [3]. В самом деле, в наше время понятие пространственности широко распространяется и на мышление, и на логику, и на язык. Достаточно вспомнить «ментальные пространства» Ж. Фоконье или «трёхмерное пространство языка» Ю.С. Степанова. Понятия пространственности , коммуникации и ситуации лежат в основе теории поля психолога К. Левина:
«Вместо того, чтобы вычленять из ситуации тот или иной изолированный элемент, значимость которого невозможно оценить без рассмотрения ситуации в целом, теория поля, как правило, предпочитает начинать с характеристики ситуации в целом. А уже после такого «анализа в первом приближении» различные аспекты и части ситуации подвергаются всё более и более конкретному и детальному анализу» [10: 253].
«Как можно определить свойства поля в данный момент времени?» -спрашивает К. Левин и здесь же отвечает: «Е сли мы хотим выводить поведение из текущей ситуации , нам надо найти способ определить характер ситуации в данный момент времени» [цит. раб.: 217]. Поле в текущий момент времени – это ситуация!
Таким образом, определяющим понятием, способным выявить и объяснить наличие и функционирование языковой топологии, является коммун и-кация. Топический (топологический) метод используется для анализа живой человеческой речи в коммуникации и для коммуникации. Этот метод не нужно изобретать, потому что топика используется всеми – как естественная база взаимопонимания и как система структурно-смысловых моделей порождения коммуникативных смыслов в процессе общения. «Вычеркните общение из человеческой жизни. Останется ли тогда в ней что-либо человеческое?» [7: 110].
Общение обусловливается ситуацией как конкретизированным бытием, а рекурсивный характер топики как системы связывает воедино язык, мышление и бытие – через коммуникацию, через общение индивидуальных сознаний. Ситуация создает «топореализуемые» условия , ведущими из которых следует считать: актуальность, обусловленную внешними обстоятельствами; целеполагание, связанное с внутренними мирами общающихся; убеждаемость как актуальное и целенаправленное воздействие на сознание оппонента; когерентность , предполагающую связность не только языковых средств, но всех ситуативных составляющих, обусловленных экстралингвистическими факторами.
О необходимости изучения языка в коммуникации , (а значит – в ситуации, ибо коммуникация не происходит в безвоздушном пространстве), или недостаточности его изучения вне коммуникации учёные задумываются давно: «Если сказуемое образовано только теми элементами смысла, которые заданы значением подлежащего, то предложение выражает аналитическое суждение, т.е. суждение, истинное в силу значений входящих в него слов. Такое предложение в общем случае лишено коммуникативно й значимости» [2: 374. Выделено мной. – В.С .].
К. Левин полагал, что «можно построить мост между общим и конкретным, между законами и индивидуальными особенностями» [10: 252; 21]. Мы считаем, что инструмент для такого строительства – система структурносмысловых моделей порождения коммуникативного смысла в процессе общения, т.е. не математическая, а языковая топология.
Список литературы К вопросу о языковой топологии
- Аристотель. Категории. М.: Гос. соц.-эконом. изд., 1939. 84 с.
- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976. 384 с.
- Бабайцев А.Ю. Топика //Философский словарь. URL: http://enc-dic.com/philosophy (дата обращения: 25.09.2915).
- Бороздина И.С. Категоризация, концептуализация и вербализация пространственных отношений и объектов: монография. Курск: Курск. гос. ун-т, 2009. 197 c.
- Веселовский А.Н. Историческая. М.: Высшая школа, 1989. 648 с.
- Воротников Ю.Л. Врождённые концепты, семантические кварки и смысловые исходы//Филологические науки. 2007, № 3. С. 47-52.
- Демьянков В.З. Загадки диалога и культуры понимания//Текст в коммуникации. М.: Институт языкознания АН СССР, 1991. С. 109-116.
- Залевская А.А. Индивидуальное знание: специфика и принципы функционирования: монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1992. 134 с.
- Идельсон Е.В. Топологический подход к анализу когнитивных и языковых аспектов дирекциональности //Теория языка и межкультурная коммуникация, 2013, № 2(14). URL: http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/014-006.pdf. (дата обращения: 12.09.2015).
- Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. М.: Смысл, 2001. 572 с.
- Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: Комкнига, 2007. 312 с.
- Маслова В.А. Языковое сознание в концепции Е.Ф. Тарасова: «за» и «против»//Жизнь языка в культуре и социуме 5: Материалы международной научной конференции. М., 29-30 мая 2015. С. 55-56.
- Неборсина Н.П. К вопросу о поэтической топологии . URL: http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_ konceptualni_2011_39/112_117.pdf (дата обращения: 25.08.2015).
- Полубиченко Л.В. Филологическая топология: теория и практика: автореф. дис... д-ра. филол. наук. М., 1991. 47 с.
- Садикова В.А. Место топики в системе категорий//Новое в когнитивной лингвистике XXI века: сб. научн. ст./отв. ред. М.В. Пименова. Бишкек-Волгоград-Екатеринбург-Санкт-Петербург, 2015. С. 157-164.
- Сурганова Т.В. Топология поэзии и прозы Редьярда Киплинга: автореф. дис… канд. филол. наук. М., 2010. 24с.
- Том Р. Топология и лингвистика, эссе по топологии и смежным темам//Успехи математических наук. 1975. Т. XXX. Вып. 1(181). С. 199-221.
- Шведова Н.Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. М.: Азбуковник, 1998. 176 с.
- Язык и сознание: парадоксальная реальность: Сб. научн. ст./Отв. ред. Е.Ф. Тарасов. М.: Ин-т языкознания РАН, 1993. 174 с.
- Якобсон Р.О. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. 460 c.
- Lewin Kurt. Principles of Topological Psychology. Publisher: MARTINO FINE BOOKS, 250 p.