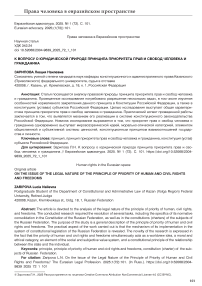К вопросу о юридической природе принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина
Автор: Зарипова Л.Н.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Права человека в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящается анализу правовой природы принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина. Проведенное исследование потребовало разрешения нескольких задач, в том числе изучения особенностей нормативного закрепления данного принципа в Конституции Российской Федерации, а также в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации. Целью исследования выступает общая характеристика принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина. Практический аспект проведенной работы заключается в том, что выявляется механизм его реализации в системе конституционного законодательства Российской Федерации. Новизна исследования выражается в том, что приоритет прав и свобод человека и гражданина одновременно выступает мировоззренческой идеей, морально-этической категорией, элементом общественной и субъективной системы ценностей, конституционным принципом взаимоотношений государства и личности.
Принцип, принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, конституция (устав) субъекта российской федерации
Короткий адрес: https://sciup.org/140310523
IDR: 140310523 | УДК: 342.24 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_72_1_101
Текст научной статьи К вопросу о юридической природе принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина
Как известно, выявление природы правового явления позволяет определить его сущность, а также, как отмечает С.С. Алексеев, «увидеть его структуру, место и роль среди других правовых явлений» [1].
В этой связи принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина характеризуется многозначно. Так, А.П. Семитко рассматривает приоритетность прав и свобод человека в качестве отличительной правовой черты идеологии либерализма как группы идейно-политических учений, концентрированным юридическим выражением ряда его важнейших положений, включая принцип индивидуализма, требование уважения достоинства человека, его прав и свобод, верховенства права [2].
С этих позиций сущностным ядром исследуемого явления выступает его принадлежность, с одной стороны, к мировоззренческим воззрениям достаточно высокой степени абстрактности, а с другой – историческая связанность с фундаментальными политико-правовыми отношениями. Иными словами, если изначально приоритетности прав человека придавалось идейно-политическое значение, то по мере развития института прав и свобод человека и гражданина она из системы особых принципов общественного сознания трансформировалась в политико-правовую действительность, став юридическим выражением сущего и должного во взаимоотношениях государства с личностью.
В то же время приоритет прав и свобод человека и гражданина выступает не только основополагающей политико-правовой идеей, но и общеобязательным юридическим требованием, имеющим многослойную форму нормативного выражения в иерархически взаимосвязанной системе источников права.
В частности, всеобщей формой правового закрепления принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина выступает ст. 2 Конституции Российской Федерации, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а государство осуществляет конституционную обязанность по их признанию, соблюдению и защите.
Касаясь вышеприведенной конституционной нормы, О.Е. Немыкина замечает, что ее содержание в полном объеме означает, что государство устанавливает приоритет прав и законных интересов человека [3]. По мнению А.С. Майорова, приоритет прав человека, несмотря на иное языковое выражение по сравнению с формулой «права и свободы как высшая ценность», высту- пает фундаментальным конституционным принципом с идентичной смысловой нагрузкой, благодаря которому права и свободы приобретают верховенство в соотношении с другими положениями Конституции [4].
Сравнительно-правовой анализ региональных конституций и уставов свидетельствует о том, что на уровне субъектов Российской Федерации применяются различные лексико-юридические формы при изложении исследуемого принципа. В частности, речь идет о введении:
-
а) конструкции «приоритет прав и свобод человека и гражданина» в преамбулу конституции (устава) субъекта Российской Федерации наряду с полным воспроизводством в главе об основах конституционного строя нормы о человеке, его правах и свободах как высшей ценности, а также признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина как обязанности субъекта Российской Федерации (Конституция Республики Татарстан [5], Конституция Республики Дагестан [6], Конституция Кабардино-Балкарской Республики [7]);
-
б) более широкой конструкции «приоритет общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека и гражданина» в преамбулу конституции (устава) субъекта Российской Федерации наряду с усеченным воспроизводством в подразделении об основах конституционного строя нормы о признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина как главной обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления (Устав Амурской области [8]);
-
в) единственной конструкции «признание прав и свобод человека высшей ценностью» и ее многократном использовании как в преамбуле, так и главе об основах конституционного строя (Конституция Республики Тыва [9], Устав Смоленской области [10]);
-
г) усеченной конструкции «признание прав и свобод человека и гражданина высшими ценностями» и ее размещении в преамбуле конституции (устава) субъекта Российской Федерации в сочетании с целями ее принятия в виде обеспечения субъектом Российской Федерации конституционных прав и свобод, а также принципом гарантированности прав и свобод, изложенным в основном тексте (Устав Псковской области [11]).
Таким образом, в региональных конституциях (уставах) сложилось, с одной стороны, терминологическое разнообразие в изложении принципа приоритета прав и свобод, сочетающего явную и скрытую формы его закрепления, а с другой – его ориентированность на наиболее значимые явле- ния, способствующие общественному, коллективному, групповому и индивидуальному развитию в пределах территории субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем отдельные конституции (уставы) субъектов Российской Федерации отличаются тем, что вводят в содержание преамбулы и (или) общие положения такую конструкцию, как «уважение к правам и свободам человека и гражданина», наряду с признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью, а также государственной обязанностью субъектов Российской Федерации их признавать, соблюдать и защищать [12].
По мнению Ш.Дж. Ахундовой, уважение имеет два основных типа понимания: уважение как признание прав человека и его внутренней ценности и уважение как оценка заслуг и достижений человека [13]. Таким образом, уважение выступает, с одной стороны, этическим оценочным понятием, а с другой – юридическим средством обеспечения исполнения государством своих обязанностей признавать, соблюдать и защищать права человека.
Однако в этике как философской дисциплине уважение трактуется более широко, в том числе как одно из важнейших требований нравственности, подразумевающее такое отношение к людям, в котором практически (в соответствующих действиях, мотивах, а также в социальных условиях жизни общества) признается достоинство личности [14]. Таким образом, уважение можно рассматривать и как нравственный императив, направленный на обеспечение человеческого достоинства, и как общее правило для разнообразных социальных действий и контактов.
В то же время в специальной литературе высказана позиция, согласно которой уважение имеет явную аксиологическую направленность, поскольку представляет собой нравственную и социальную ценность в обществе и государстве [15]. В аксиологическом контексте уважение к правам и свободам отличается гуманистической направленностью, поскольку в равной мере касается каждого человека и гражданина, различных сфер его жизнедеятельности и разнообразных благ, которыми ему можно гарантированно обладать и пользоваться.
Таким образом, приоритет прав и свобод человека и гражданина одновременно выступает мировоззренческой идеей, морально-этической категорией, элементом общественной и субъективной системы ценностей, конституционным принципом взаимоотношений государства и личности.