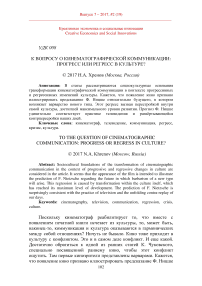К вопросу о кинематографической коммуникации: прогресс или регресс в культуре?
Автор: Хренов Николай Андреевич
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (19), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются социокультурные основания трансформации кинематографической коммуникации в контексте прогрессивных и регрессивных изменений культуры. Кажется, что появление кино призвано иллюстрировать предсказание Ф. Ницше относительно будущего, в котором возникнет варварство нового типа. Этот регресс вызван перестройкой внутри самой культуры, достигшей максимального уровня развития. Прогноз Ф. Ницше удивительно соответствует практике телевидения и развёртывающейся контрпересройки наших дней.
Кинематограф, телевидение, коммуникация, регресс, кризис, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14239102
IDR: 14239102 | УДК: 008
Текст научной статьи К вопросу о кинематографической коммуникации: прогресс или регресс в культуре?
Поскольку кинематограф реабилитирует то, что вместе с появлением печатной книги исчезает из культуры, то, может быть, наконец-то, коммуникация и культура оказываются в гармонических между собой отношениях? Ничуть не бывало. Кино тоже приходит в культуру с конфликтом. Это и в самом деле конфликт. И еще какой. Достаточно обратиться к одной из ранних статей К. Чуковского, специально посвященной раннему кино, чтобы этот конфликт ощутить. Там первые кинозрители представлены варварами. Кажется, что появление кино призвано иллюстрировать предсказание Ф. Ницше 102
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations относительно будущего, в котором возникнет варварство нового типа – уже не потому, что тот или иной народ, достигший высокого уровня культуры, завоюет другой народ, который еще не успел развить своей культуры, а потому, что внутри самой культуры, достигшей максимального уровня развития, возникнет регресс. Для Ф. Ницше в этом регрессе нет ничего удивительного, ведь с его точки зрения, «культура - это лишь тонкая кожица поверх пылающего хаоса» [9, c. 337]. Следовательно, ее легко можно разрушить.
Разумеется, Ф. Ницше не может не видеть, как под воздействием науки, техники и коммуникации мир вроде бы изменяется к лучшему. Вот констатация им этих успехов. «Благодаря покорению природы, -пишет Ф. Ницше, человечество в новом столетии, вероятно, приобрело уже намного больше сил, чем оно может израсходовать… Одно только воздухоплавание подрывает все наши культурные представления… Грядет эпоха архитектуры, когда вновь будут строить для вечности, подобно римлянам» [9, c. 377]. Для Ф. Ницше не является секретом то, что в будущем сфера рекреационных и развлекательных сфер расширится («… В будущем будут существовать, во-первых, бесчисленные заведения, в которые время от времени будут отправляться, чтобы подлечить свою душу; во-вторых, бесчисленные средства против скуки – в любое время можно будет услышать чтеца и тому подобное; в-третьих, празднества, в которых множество отдельных изобретений будут соединены в общих целях этих празднеств» [9, c. 377].
Однако при всех достижениях цивилизации и науки неизбежно возникает ситуация, когда культура погибнет от своих средств, а жизни грозит опасность усомниться в самой себе. Вот довольно мрачный прогноз Ф. Ницше на будущее: «Интерес к истине… будет падать: иллюзия, заблуждение, фантастика шаг за шагом завоюют свою прежнюю почву… ближайшим последствием этого явится крушение наук, обратное погружение в варварство; опять человечество должно будет сызнова начать ткать свою ткань… Но кто поручится, что оно всегда будет находить силы для этого?» [9, c. 377]. Этот прогноз Ф. Ницше удивительно соответствует практике телевидения, соответствующей духу развертывающейся контрперестройки, т.е. нашим дням. Именно по некоторым телепередачам сегодня можно отслеживать отход от научного мировоззрения в сторону самых фантастических вымыслов, например, о происхождении жизни на земле, подаваемых как истинные.
Прогноз Ф. Ницше затем будет повторен И. Хейзингой. Правда, 103
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
И. Хейзинга уже констатирует в реальности то, что Ф. Ницше усматривал лишь в будущем. Согласно И. Хейзинге, механизация и технизация жизни не исключают одичания человека. Более того, И. Хейзинга уже ставит вопрос о необходимости излечения культуры от нанесенного ей ущерба в результате распространяющейся технизации [4, c. 338].
Кажется, что кинематограф преодолевает отчуждение, которое в культуру привносит сначала письменность, а потом и печатная книга. Но не тут-то было. Блистательный критик начала ХХ в. К. Чуковский, которого мы больше знаем, как выдающегося детского писателя, касаясь сюжетов в ранних фильмах, утверждал, что со стороны критики они заслуживают такого же пристального внимания, какое критика уделяет романам И. Тургенева и Н. Чернышевского [8]. Аргументируя этот тезис, критик уже улавливает то, что прогнозировал Ф. Ницше. Оказывается, кинематограф приблизил человечество к осознанию того, о существовании чего в Х1Х в. до Ф. Ницше не догадывались, а именно, варварство как внутреннее для цивилизации явление. Он открыл огромное число людей, отличающихся от тех, с которыми до сих пор имело дело искусство. Масса получает громадное удовольствие от сюжетов, в которых сумасшедшие едят мыло, сталкивают в воду женщину и пьют бензин, когда вместо шляпы на голову надевается кастрюля. Утрируя ситуацию, критик удивляется, почему у посетителей первых кинотеатров отсутствуют кольца в носу и раскрашенные перья вместо одежды.
Иначе говоря, критик уже фиксирует взрыв варварства, который стал очевидным с возникновением кино и о котором первым начал говорить Ф. Ницше, потом в начале ХХ века в России Н. Бердяев, а ныне в своих книгах наш философ Н. Мотрошилова [2]. Более того, когда намного позднее К. Чуковский включил свою работу о раннем кино в свое собрание сочинений, он свои выводы дополнил шокирующим наблюдением. «Теперь через столько лет умудренные горьким историческим опытом, - пишет он, - мы, к сожалению, хорошо понимаем, что в тогдашнем тяготении мирового мещанства к кровавым бульварным сюжетам таились ранние предпосылки фашизма» [8, c.149]. Но что такое фашизм, который, сознательно умертвляя тысячи людей в концлагерях, возвращал мир не только в Средневековье, но и в доисторию, как не взрыв варварства?
Тревогу по поводу воздействия кино били не только критики, но в особенности педагоги. Так, доказывая, что влияние кино становится 104
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations сильнее, чем влияние книги, семьи и школы, В. Правдолюбов приходил к мысли, что кино становится «школой преступления» [7, c.172]. Конечно, В. Правдолюбов преувеличивал негативное воздействие кино. Но почему до сих пор общество упорно продолжает возвращаться к подобной постановке вопроса? Недавно вышла книга К. Тарасова, в которой с опорой на проведенные исследования доказывается, что в киноаудитории (имеется в виду молодежная аудитория), действительно, существует группа риска, подверженная негативному влиянию образов насилия в фильмах [3, c.203].
На 35 Международном Московском кинофестивале 2013 г. был показан фильм «Акт убийства» режиссера Д. Оппенхеймера. Фильм воспроизводит изменения в политической истории Индонезии, когда в стране утвердилась власть генерала Сухарто. В результате новой политики начались массовые убийства иностранцев, коммунистов и тех, кого подозревали в связях с коммунистами. Среди убийц оказалось много киноманов – поклонников американских гангстерских фильмов, которые, уничтожая неугодных лиц, подражали гангстерам – героям голливудских фильмов. Спустя много лет они, не раскаиваясь в содеянном, согласились сняться в фильме, реконструировавшем те уже ушедшие в прошлое события. Подражая голливудским звездам, они участвуют в воссоздании событий, по-прежнему веря в том, что их действия вовсе и не преступления, а героические деяния, которыми они гордятся. Как в связи с этим не вспомнить суждение М. Маклюена о том, что средства коммуникации высвобождают колоссальную новую силу и энергию, «сопоставимую с той, какая высвобождается при расщеплении ядра или термоядерном синтезе» [1, c.58]. Только вот М. Маклюен не продолжил свою мысль, а это продолжение предполагает анализ того выброса асоциальных инстинктов, которые уже выходят за пределы коммуникации.
Отметим, что трансформация мозаичных признаков восприятия в структуры коммуникации прослеживается и в драматичном переходе от телевидения к интернету. Получается, что с конфликтом в культуру входит и телевидение. Причем это произошло буквально на глазах ныне существующего поколения. Появление телевидения вообще воспринималось катастрофой. Прежде всего, бросалось в глаза то, что оно разрушает вселенную или, как выражался М. Маклюен, галактику Гутенберга, успевшую с ХVI в. стать основанием всей культуры [5].
Можно сделать вывод, что всё это является следствием кризиса гуманитарной культуры, истоки которой уходят в эпоху Ренессанс.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Эта мозаичность восприятия, а, следовательно, и мышления, становится очевидной и полностью осознаваемой в эпоху интернета [6].
В связи с интернетом еще более уместно употреблять метафору М. Маклюена, отождествившим возникновение каждого коммуникативного средства с взрывом. Под таким взрывом М. Маклюен понимал «выброс человеческой энергии и даже агрессивного насилия». Подобный взрыв М. Маклюен фиксировал, когда письменность выводила человека из племенных сообществ, в которых имела место паутина родства и взаимозависимости. Но такой взрыв характерен и для более поздних средств коммуникации. В частности, возможных на основе электронных технологий. Правда, М. Маклюен признается: нам ничего неизвестно о последствиях высвобождения социальных и психологических энергий, свидетелями которых мы являемся. Так, имея в виду коммуникацию на основе электронных технологий, упраздняющих индивидуализацию в культуре, М. Маклюен пишет: «Не будет ошибкой сказать, что интеграция людей, познавших индивидуализм и национализм, есть нечто иное, нежели распад «отсталых» и устных культур, только что столкнувшихся с индивидуализмом и национализмом. Это различие между атомной бомбой и водородной. Последняя намного разрушительнее» [1, c.60].
Список литературы К вопросу о кинематографической коммуникации: прогресс или регресс в культуре?
- Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. -М.: «Канон-пресс -Ц», 2003. 464 c.
- Мотрошилова Н. Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов. -М.: ИФРАН, «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. -482 c.
- Тарасов К. Насилие в зеркале аудиовизуальной культуры. М.: Белый берег, 2005. 382 с.
- Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. СПб., Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. 456 с.
- Хренов Н.А. Принцип части вместо целого в визуальных формах культуры ХХ в.//«От фрагмента к целому: парадигмы культурных изменений». Материалы Междунар. науч. конф. (Самара, 2016 г.)/под ред. В.И. Ионесова. Самара: ООО «Поволжская научная корпорация», 2017. 613 с. C.92-145
- Хренов Н.А. О коммуникативных сдвигах и личностном потенциале культуры//Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры». Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Самара, 2016. в 2 ч.; под ред. С.В. Соловьёвой, В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. Самара: СГИК, 2016. С.69-76.
- Хренов Н. К проблеме социологии и психологии кино 20-х годов. Вопросы киноискусства. Вып. 17. М.: Наука, 1976;
- Чуковский К. Собрание сочинений в 6 т., т. 6. М.: Изд-во «Художественная литература», 1969.
- Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. СПб.: Владимир Даль, 2004. 632 с.