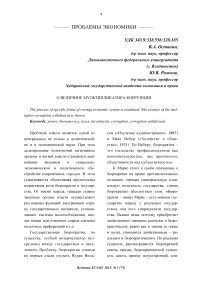К вопросу о классификации методических процедур аудита организаций жилищно-коммунального хозяйства
Автор: Лещенко И.Б.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Аудиторский контроль
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрена классификация методических процедур аудита в организациях жилищно-коммунального хозяйства
Короткий адрес: https://sciup.org/14319875
IDR: 14319875
Текст научной статьи К вопросу о классификации методических процедур аудита организаций жилищно-коммунального хозяйства
Проблема власти является одной из центральных не только в политической, но и в экономической науке. При этом делегирование полномочий легитимных органов и ветвей власти становится важнейшим явлением в социальноэкономическом и политическом обустройстве современных городов. В этом усматривается объективная предпосылка возрастания роли бюрократии в государстве. От имени народа, граждан страны законные органы власти осуществляют ряд важных функций: выстраивают охрану государственных интересов, устанавливают системы налогообложения, вводят новые или отменяют старые системы налоговых преференций и т.д.
Государственная бюрократия, по существу, особый интермедиатор (посредник) между государством и населением. Проблему бюрократии одними из первых стали изучать Вудро Виль- сон («Изучение администрации», 1887) и Макс Вебер («Хозяйство и общество», 1921). По Веберу, бюрократия – это господство профессионализма над некомпетентностью, над произволом, объективности над субъективностью.
К. Маркс стоит в своём отношении к бюрократии на прямо противоположных позициях, отрицая универсальную социальную полезность государства, считая бюрократию абсолютным злом. «Бюрократия – пишет Маркс – есть мнимое государство наряду с реальным государством, она есть спиритуализм государства. Всякая вещь поэтому приобретает двойственное значение: реальное и бюрократическое, равно как и знание (а также и воля), становится двойственным – реальным и бюрократическим. Но реальная сущность рассматривается бюрократией сквозь призму бюрократической сущности, сквозь призму потусторонней, спи- ритуалистической сущности» [1, с. 272].
Делегирование полномочий открывает путь к более жёстким формам государственной власти в стране, вплоть до форм диктатуры. Подобное делегирование полномочий может быть применено для ква-зиконституционного прикрытия для различных форм диктатуры. Данное положение высказал в своё время Л. Мизес [2]. По Мизесу, суть этой тенденции раскрывается в том, что в экономике подготавливается соответствующая база, когда бюрократия объективно перерастает в коррупцию (от лат. corruptio - подкуп), что даёт основания осуществлять преступную деятельность в сфере экономики, политики путём использования должностными лицами доверенных им прав и властных полномочий в своих частных интересах. В экономике наиболее частыми, типичными формами проявления коррупции стали подкуп чиновников; в политике, где она наиболее тесно выражает интересы определённых экономических сообществ, - подкуп политиков, руководителей аппарата Президента России, взяточничество за законное и незаконное предоставление благ и преимуществ, протекционизм при продвижении на руководящие должности работников по признакам родства, национальности, землячества, личной преданности и приятельских симпатий. Это социально-политическое, экономическое явление находит особо благоприятную почву, когда бюрократия разрастается и превращается в особый слой, наделяющий себя властными исполнительскими полномочиями. Как показывает недавний опыт бывшего СССР, коррупция приняла ярко выраженный ха- рактер именно в период социальноэкономического застоя, который по иронии судьбы стали именовать развитым социализмом. Апогей этой формы можно было увидеть в том, что уже и сама избирательная система, и механизм наделения властными полномочиями бюрократического аппарата, наконец, формы контроля были выведены из-под общественного контроля и критики.
В экономике указанный феномен отразился в процессе функционирования теневой экономики, появления теневых рынков распределения продуктов и благ. Все социальные, экономические, политические институты с неизбежностью приобрели существенные признаки гипертрофированного выпячивания частных интересов слоя чиновников. Проблема становится настолько запутанной и неоднозначной, что традиционные институциональные формы уже становятся бессильными и неспособными в разрешении проблем экономического развития страны. Коррумпированные структуры, сформировавшие свои анклавы и в органах политической, государственной власти, объективно детерминировали ситуацию резкого роста экономической и прочих форм преступности. Традиционные институты государства, призванные бороться с преступностью, стали органическим и необходимым звеном этой системы, в результате чего оказались не в состоянии обеспечить неотвратимость юридической ответственности за состояние дел в экономике. Безусловно, слом в результате социально-экономического переворота прежней, разложившейся системы привёл к восстановлению нормальных цивилизо- ванных рыночных отношений. Именно рынок принёс с собой свободу производителям, покупателям, всем субъектам рыночной экономики, хотя это совсем не означает, что была ликвидирована база для коррупции в обществе. И пусть рынок и привёл к слому коррупционной системы в бывшем СССР, однако это был слом одной из специфических форм коррупционной экономической системы. Другими словами, это было условие необходимое, но недостаточное. Главная причина осталась как бы в тени – продолжение, сохранение практики и традиций передачи народом своих полномочий, включая и властные функции, его представителям, то есть бюрократическим институтам. Поэтому далеко не случайно, что бюрократия проникнута ярко выраженным неодобрением к частному бизнесу и свободному предпринимательству.
Более того, как пишет по этому поводу Л. Мизес, приверженцы бюрократической системы именно это считают самым одобрительным в собственной позиции. Они совершенно не стыдятся своей политики, направленной против бизнеса, они, напротив, гордятся ею, они стремятся к полному государственному контролю над бизнесом, а в каждом предпринимателе, который хочет избежать такого контроля, видят врага общества. В такой среде бизнесмен вынужден прибегать к двум средствам – дипломатии и подкупу. Он должен использовать эти методы не только по отношению к правящей партии, но также и по отношению к поставленным вне закона и преследуемым оппозиционным группам, которые могут однажды захватить власть.
Однако, полагаем, Л. Мизес несколько прямолинейно ставит вопрос о примате формы частной собственности. Он усматривает избавление от тоталитарных тенденций в обществе в господстве капиталистических отношений. И было бы большой ошибкой вину за эту коррупцию возлагать исключительно на систему государственного вмешательства в экономику и бюрократизм как таковые. Это бюрократизм, который выродился в рэкет, в организованное вымогательство развращённых политиков.
Основным предметом разногласий в политической борьбе является ответ на вопрос о том, должно ли общество быть организовано на базе частной собственности на средства производства – капитализм, рыночная система – или же на основе общественного контроля над средствами производства – социализм, коммунизм, плановая экономика. Капитализм предполагает свободу предпринимательства, суверенитет потребителя в экономических вопросах. Социализм – это полный государственный контроль над всеми формами частной жизни и неограниченное господство государства как центрального органа управления экономикой.
Между этими двумя системами не может быть никакого компромисса. Вопреки широко распространённому заблуждению не существует промежуточного пути [2]. Вопрос, который может быть поставлен во главу угла, – это вопрос об экономических последствиях осуществления бюрократией, переросшей в коррупцию, своих представительских функций. Другими словами, какова истинная цена бюрократии при всей её необходимости? Как свидетельствуют некоторые публицистические статьи в российской прессе, чиновничество регулярно осваивает, и притом весьма успешно, традиционный для неё рынок услуг. Однако это весьма специфический рынок услуг, где отсутствует присущая для рынка свобода. На этом рынке услуг господствует не получатель, то есть потребитель, покупатель, а чиновник, который монополизирует функции предоставления органами государственной власти услуг по проверке, контролю, выдаче разрешений и т.п. Природа платы за эти услуги имеет двойственный характер: с одной стороны, это платежи за действительно предоставленные услуги, размер которых отражается во всевозможных сборах и определённым образом выражает некоторую эквивалентность в отношениях гражданина как клиента, а чиновника как исполнителя. С другой стороны, именно монопольное положение государственного чиновника позволяет ему организовывать другие отношения и определять соответствующие механизмы вторичного перераспределения дохода в частную пользу. Эти отношения приобретают обязательный для гражданина, бизнесмена характер, что делает эти формы изъятий сродни с налоговыми изъятиями. Однако в отличие от последних, они не освящены законом, более того, они формально нелегитимны. Для исследователей представляет большой интерес выявление политических, экономических основ современной российской бюрократии и её влияния на развитие экономики, а также возможностей по нейтрализации этого истинно национального бедствия современной
России. Более того, данная проблема является частью глобальной проблемы -национальной «безопасности или свободы». Если объёмы коррупционных изъятий в экономике достигают весьма значительных величин, то необходимы поиски решающих факторов нейтрализации этого социально-экономического, политического суперактуального феномена [3].
Полагаем, что решение данной проблемы можно видеть, например, в усилении парламентского контроля, а следовательно, всех институтов законодательной власти федеративного государства за властью исполнительной, включая суды и процесс финансирования избирательных кампаний.
В демократическом обществе должен быть создан такой механизм власти, в котором депутаты зависят от своих избирателей в большей степени, чем от чиновников и исполнительной власти вообще. Трагедия демократического обустройства современной России в том, что нет действенного контроля за правоохранительными органами, а высшая бюрократическая элита на уровнях федеральном, региональном и местном вообще не заинтересована в создании института реального контроля над собой.
Положительный эффект в снижении негативных явлений в экономике от коррупционных изъятий могут дать следующие меры: во-первых, выработка чёткого механизма сменяемости высшей региональной элиты, например запрет переизбираться губернаторам на третий срок; во-вторых, выработка механизма защиты свободы слова; в-третьих, в России должна быть создана не мнимая, а реальная оппозиция власти. Бюрократ- коррупционер должен знать о том, что любой корыстный проступок станет достоянием гласности; в-четвёртых, следует принять и воплотить в практику закон о конфликте интересов, в соответствии с которым любой чиновник в обязательном порядке будет не только заполнять свою декларацию о доходах, но и о своих коммерческих интересах.
Последнее обстоятельство представляется нам весьма важным, ибо в современной России стало нормой, когда чиновники всех уровней имеют собственный бизнес и используют административные ресурсы в интересах своего бизнеса в ущерб общественным. По существу, речь идёт о девиантном поведении должностных лиц, имеющем разрушающий характер для экономики страны [4]. В то же время следует помнить, что в России пока только малая доля всех экономических отношений строится на правовых нормах. В период российского правового нигилизма в начале девяностых годов прошлого века вообще считалось правилом уходить правдами и неправдами от уплаты налогов. Следовательно, эта часть изъятий имеет такие же экономические последствия, как и налоги, а их эффективность можно оценить по тем методикам, которые уже выработаны теорией налогового мультипликатора [3].
Рассмотрим механизм действия мультипликатора автономных налогов, то есть не зависящих от уровня доходов.
Доходы домохозяйств, как известно, и потребляются, и (или) сберегаются. Следовательно, можно говорить, что функция сбережения ведёт себя фактически также как и функция потребления. Значит можно говорить о предельной склонности к сбережению (s), которую следует считать той долей, которая остаётся от разницы между единицей и предельной склонностью к потреблению. Процесс восстановления равновесия, как и в первой модели, осуществляется изменениями в запасах. Предприятия либо сокращают, либо увеличивают своё производство, объём которого будет соответствовать уровню равновесного производства. Фактором воздействия, следовательно, как и в случае с моделью автономного совокупного спроса, становятся непреднамеренные изменения инвестиций. Только в положении равновесия совокупный спрос равен производству. Уровень равновесного производства зависит от автономных инвестиций и от автономного потребления наряду с предельной склонностью к потреблению (сбережению). Последнее отражается в модели углом наклона кривой потребления. Чем выше предельная склонность к потреблению, тем выше равновесное производство. Если домохозяйства потребляют большую часть своего дохода, то равновесное производство должно быть более высоким, так как совокупный спрос (расходы, потребление) определяют производство.
При равновесном производстве сбережения равны планомерным, преднамеренным инвестициям, которые предприятия намерены осуществить. Они независимы от дохода и поэтому называются автономными от дохода инвестициями.
Если сбережения равны доходам за минусом потребления, то плановые инвестиции равны совокупному спросу минус потребление. Если сбережения не равны сбережениям, то это означает, что инвестиции включают в себя непреднамеренные инвестиции в запасы. Либо происходит «рассасывание» запасов за счёт деинвестирования. Однако механизм воздействия на совокупный спрос уже задействован. Через непреднамеренные инвестиции можно добиваться приведения в равновесное состояние экономической системы. В итоге все инвестиции следует разделять на плановые инвестиции и непреднамеренные инвестиции, регулирующие объём запасов. В последние годы в научной литературе были высказаны и описаны теоретические концепции, которые поставили под сомнение фундаментальные положения модели Дж. М. Кейнса на источники инвестиционных ресурсов [5]. Так, В.К. Гуртов сомневается по поводу истинности вывода Кейнса и его теории, что совокупное превышение доходов над потреблением, которое следует называть сбережениями, не может отличаться от увеличения ценности капитального имущества, которое равнозначно превращается в инвестиции [6]. Следовательно, было подвергнуто сомнению то положение, что равенство между величиной сбережений и размерами инвестиций вытекает из двустороннего характера сделок между производителем, с одной стороны, и потребителем или покупателем капитального имущества – с другой. В приведённой работе утверждалось, что эта система взглядов будет иметь теоретическую значимость только в исключительно частном случае, когда непотребляемая часть стоимости, или ценности, по Кейнсу, совокупного продукта должна превратиться в прирост капитала той же стоимости, то есть ценности.
В экономической литературе утверждалось, что в процессе рассмотрения понятия «сбережения» ряд учёных воспринимает его не только как не потребляемую часть стоимости совокупного годового продукта, а скорее, как сумму сбережённых, накопленных денежных средств, которые расходуются на покупку капитального имущества.
Важно учитывать, что происходит трансформация понятий: первоначально сбережения как часть годового продукта рассматриваются как накопление денежных средств за время, определяемое текущим годом и рядом предшествующих лет. При этом состав сбережений в своей основе формируется на основе амортизационных отчислений. И если эта сумма будет израсходована на приобретение нового оборудования, то сумма инвестиций будет равна сумме сбережений. Однако такой подход верен лишь в случае простого воспроизводства [7].
Далее делается вывод, что при расширенном воспроизводстве сбережений денежных средств, которыми располагает покупатель основных фондов, как правило, не хватает для приобретения дополнительного оборудования для развития производства. В таком случае на помощь привлекают кредит. Реальный сектор экономики создаёт новые стоимости (ценности) и новые потребительные стоимости, но деньги он не создаёт. Следовательно, для получения дополнительных денег, которые могли бы обслужить такой процесс прироста стоимостей, необходим их приход в реальный сектор из банковской сферы, точнее, с помощью центральных банков [8].
В итоге суммируя имеющиеся в форме сбережений средства, то есть размеры амортизационных отчислений и банковский кредит, получается необходимая для расширенного воспроизводства сумма.
Изложенное представим в виде математической модели:
Инвестиции (И) = Сбережения (С) + Кредиты банковские (К).
Уточняется при этом, что банковские кредиты есть результат эмиссии.
Следует согласиться с В.К. Гуртовым, что действительно в теоретическом плане нет единого мнения в ответе на вопрос о том, является ли амортизация дополнительным источником накопления. Далее утверждение, что в объём сбережения включены собственные средства, а в состав последних – амортизация. Но включать и трактовать амортизацию как сбережения, вероятно, есть, скорее, научный казус. Далее предлагается уточнённая модель инвестиционных ресурсов на основе равенства их величине собственных сбережений, плюс бюджетным средствам, плюс непосредственно сбережениям населения, включая денежные ресурсы, трансформируемые в инвестиции через механизмы облигационного характера, эмиссии акций, лизинг, ипотеку и т.д., плюс банковские кредиты. Необходимо отдать должное В.К. Гуртову, который понимает отход от единой методологической основы в исследовании, когда говорит о необходимости оговорки того, что участие сбережений населения просматривается как в сбережениях производственного характера, так и в банковских кредитах, где они участвуют косвенно.
В итоге приведённая выше схема уточняется на основе статистических данных и представляется в следующей модели: 100 % Инвестиций = 60 % Собственных сбережений, включая амортизацию, + 15 % Средства населения непосредственно + 20 % Средства бюджетов + 5 % Кредиты банков.
Мы не можем согласиться ни с выводами учёного, ни с его методом исследования. При этом несостоятельность метода исследования предопределила и несостоятельность выводов. Статистические данные, которые обрабатываются на основе своих верных с позиций экономической статистики инструментариев, тем не менее не могут спасти положение. Они могут дать внешнюю наукообразность процессу вывода, но быть гарантией того, что вывод имеет право на истину, оснований не имеет.
Ошибка метода исследования заключается в том, что, оперируя понятиями макроэкономики, такими как «сбережения», «инвестиции», метод исследования сохранил самые существенные черты микроэкономики. Если говорить о макроэкономических инструментах анализа, то следует быть предельно осторожным. Анализируя роль сбережений в экономике, подвергая сомнению их равенство в состоянии макроэкономического равновесия величине сбережениям, допускается мысль, что сберегают не только домохозяйства, но и фирмы. А то, что фирмы приобретают основные средства на рынке капитальных благ, привлекая для этого ресурсы банков или используя нераспределённую прибыль, накопления собственных страховых резервов, совсем не значит, что это есть их (фирм), собственные сбережения. Здесь то, что все видят на поверхности экономических явлений, увидел экономист-исследователь.
Собственные средства предприятия в макроэкономическом анализе есть собственные средства его собственников, например акционеров. Предприятие как собственник есть иллюзорный собственник. Оно распоряжается на основе правовых и иных институтов общества собственностью на те ценности факторов производства, которые ему по его природе принадлежать никак не могут. В макроэкономических моделях инвестиции следует учитывать только один раз. Если эти ресурсы переходят из одной формы в другую, то следовало бы одновременно с их суммированием, например, в форме банковских депозитов, вычитать, если они в форме кредита направлялись в форме кредитования реального сектора экономики, вызывая приращение производственных фондов.
Как нам представляется, вопрос о природе инвестиционных ресурсов запу- тывается ещё в большей степени. Мультипликатор отражает факт изменения в равновесном производстве, которое возникает в результате изменения автономного совокупного спроса на единицу. Это коэффициент, который показывает изменение равновесного объёма производства, если имеет место изменения в инвестициях, налогах, величине государственных расходов, трансфертных выплатах государству домохозяйствам. Мультипликатор даёт возможность определить возрастание равновесного производства путём его умножения на объём изменения автономных инвестиций. Конечное увеличение в доходах и в производстве всегда будет больше размера первоначальных инвестиционных вложений. Это произойдёт потому, что домохозяйства, получив первоначальный доход в размере инвестиций, опять часть его будут инвестировать в производство. Эта доля будет определена той же самой долей предельной склонности к потреблению. Это вызовет увеличение доходов производителя (рост ВНП), хотя уже и на меньшую величину. Следовательно, дополнительное увеличение доходов должно вызвать прирост расходов. Степень воздействия мультипликатора зависит от величины изменения автономных расходов; размера мультипликатора, который, в свою очередь, определён предельной склонностью к потреблению. Модель приобретает более адекватный характер с включением государственного сектора. Включение в модель фактора влияния государственного сектора делает модель более сложной, но одновременно более адекватной. Это имеет место по следующим причинам:
– трансфертные платежи и налоги добавляются к функции потребления и мультипликатору;
– обнаруживается влияние изменений в налогах, государственных расходах и трансфертных платежах на состояние равновесного производства;
– модель позволяет уловить влияние налогов и государственных расходов на бюджет.
Из-за учёта налогов и трансфертных платежей потребление становится функцией доходов после уплаты налога, а не общего дохода. Трансфертные платежи в форме выплат пособий по безработице, выплаты из фондов социального обеспечения и социальной защиты и т.д. увеличивают потребление, хотя налоги его сокращают. Так как налоги являются функцией доходов, то предельная склонность к потреблению изменяется в сторону снижения из-за уменьшения располагаемого дохода после выплаты налогов.
Множитель перед совокупным автономным спросом есть мультипликатор. По своей величине он меньше мультипликатора инвестиционных расходов, так как налоги снизили предельную склонность к потреблению ввиду уменьшения совокупного дохода на величину налоговых отчислений. Подоходный налог – автоматический стабилизатор, ибо он сокращает объём производства в ответ на изменение автономного спроса из-за меньшего мультипликатора. Автоматические стабилизаторы исполняют важ- ную функцию, ибо они сокращают амплитуду колебаний делового цикла вокруг линии тренда.
Одной из причин колебаний в цикле деловой активности являются изменения спроса на инвестиции. Автоматические стабилизаторы смягчают уровень подобных изменений. Так, прогрессивный подоходный налог представляется ставкой, которая увеличивается в период экономического подъёма. В это время растут доходы, а следовательно, растут и налоговые изъятия в прогрессирующем размере. Это уменьшает мощь инвестиционного мультипликатора. В период спада, наоборот, налоговые изъятия уменьшаются, и мультипликатор из-за снижения налоговой ставки возрастает. Тем самым создаются большие предпосылки преодолеть экономический спад.
Рост государственных закупок, к примеру, увеличивает совокупный спрос на сумму их прироста. Изменение совокупного прироста государственных расходов приведёт к росту равновесного производства, умноженному на мультипликатор государственных закупок со ставкой подоходного налога.
При прогрессивном налогообложении изменение налоговой ставки оказывает на мультипликатор двоякое воздействие.
Во-первых, следует принимать тот факт, что изменения в расходах будут иметь место при первоначальном уровне дохода. Первоначально потребление будет меняться, потому что доход после вычета налогов изменяется в результате изменения налоговой ставки.
Во-вторых, данная модель уже может быть дополнена фактором бюрократических изъятий. Это ещё более усложнит модель, но, как нам представляется, она в большей степени будет соответствовать реалиям российской экономики на современном этапе. Проблема, которая нуждается в уточнении, – это значение экзогенной для модели величины бюрократических изъятий.
Статистики по этому вопросу нет, да она и не может существовать. Есть дан- ные, которым нельзя полностью доверять из-за их политической ангажированности, что ежегодный коррупционный оборот в нашей стране достиг 300 млрд дол. США, что сопоставимо с годовым российским бюджетом и составляет 25 % ВВП страны [9].
Но можно точно сказать, что число осуждённых за взяточничество (а это часть коррупционных преступлений по российскому законодательству) постоянно растёт (см. таблицу).
Таблица – Зарегистрированные преступления в России за период 1990–2013 гг., тысяч / процентов
|
Год |
|||||
|
1990 |
2000 |
2005 |
2010 |
2013 |
|
|
Зарегистрировано пре ступлений, всего тысяч |
1 839,5/100 |
2 952,4/100 |
3 554,7/100 |
2 628,8/100 |
2 206,2/100 |
|
в том числе: – взяточничество |
2,7/0,147 |
7,0/0,237 |
9,8/0,373 |
12,0/0,456 |
11,5/0,521 |
Примечание. Рассчитано авторами по данным Росстата. В знаменателе – процент.
Как мы полагаем, здесь следует опираться на различные экспертные оценки. Размеры подобных изъятий в экономической литературе оценивались по-разному. Так, имела место информация о том, что размер взяток крупным чиновникам доходит до 50 % от предполагаемой прибыли от конкретного проекта.
Нежелательность теневых операций коррупционного характера для всей экономики проявляется еще в том, что эти незаконные деньги следует тем или иным способом «отмывать». После этого они, но уже с большими издержками для коррупционной системы имеют возможность превращения в инвестиционный ресурс. Более того, эти нелегальные финансовые ресурсы не повысят резко и предельную склонность к потреблению. Скорее они станут объектом сохранения, то есть превращённой формой «бережливости» с её отрицательным эффектом и «парадоксом бережливости». Наконец, эти ресурсы не приведут к увеличению совокупного спроса на отечественные товары. Они будут решать проблемы занятости, экономического роста не в своём отечестве, а в экзотических странах. Поэтому, полагаем, половина изымаемого чистого дохода в форме бюрократических изъятий у отече- ственного бизнеса (величина коэффициента коррупционных изъятий, равная 0,5) не может считаться чрезмерно завышенной оценкой, как может показаться на первый непосвящённый взгляд.
Следовательно, при формулировании антикоррупционной политики правительство страны должно уделять большое внимание возможным подходам к оценке коррупционных рисков. Оценка рисков – один из эффективных предупреждающих механизмов противодействия коррупции, помогающий обеспечить соответствие разрабатываемых антикоррупционных мер реальным коррупционным схемам в конкретной стране.
Список литературы К вопросу о классификации методических процедур аудита организаций жилищно-коммунального хозяйства
- Белуха Н. Т. Аудит: учебник. Киев: Знання, 2000. 769 с. (Высшее образование XXI века).
- Бычкова С. М., Итыгилова Е. Ю. Международные стандарты аудита: учеб. пособие/под ред. С. М. Бычковой. М.: Велби; Проспект, 2008. 432 с.
- Воронина Л. И. Аудиторская деятельность: основы организации: учеб.-практич. пособие. М.: Эксмо, 2007. 336 с.
- Солончева С. В. Методические основы разработки внутренних стандартов аудиторской деятельности: автореф. дис. … канд экон. наук. М., 2009.
- Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. 448 с.