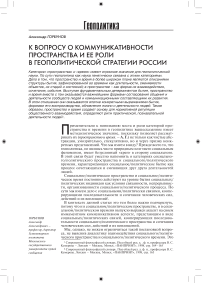К вопросу о коммуникативности пространства и ее роли в геополитической стратегии России
Бесплатный доступ
Категории «пространства» и «время» имеют огромное значение для геополитической науки. По сути геополитика как наука генетически связана с этими категориями. Дело в том, что пространство и время в более широком плане являются описаниями структуры бытия, зафиксированной во времени как длительности, сменяемости объектов, их стадий и состояний; в пространстве - как форма их взаимодействия, сочетания, события. Выступая фундаментальным детерминантом бытия, пространство и время вместе с тем оказываются важнейшими формами согласования общения и деятельности сообществ людей и коммуникационными составляющими их развития. В этом отношении они оказываются вполне конкретными выражениями бытия, формами его воспроизводства, обновления жизни и деятельности людей. Таким образом, пространство и время создают основу для нормативной регуляции общественного взаимодействия, определяют ритм практической, познавательной деятельности людей1.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169222
IDR: 170169222
Текст научной статьи К вопросу о коммуникативности пространства и ее роли в геополитической стратегии России
К ВОпРОСУ О КОммУНИКАТИВНОСТИ пРОСТРАНСТВА И ЕЕ РОлИВ ГЕОпОлИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ
Категории «пространства» и «время» имеют огромное значение для геополитической науки. По сути геополитика как наука генетически связана с этими категориями. Дело в том, что пространство и время в более широком плане являются описаниями структуры бытия, зафиксированной во времени как длительности, сменяемости объектов, их стадий и состояний; в пространстве – как форма их взаимодействия, сочетания, события. Выступая фундаментальным детерминантом бытия, пространство и время вместе с тем оказываются важнейшими формами согласования общения и деятельности сообществ людей и коммуникационными составляющими их развития. В этом отношении они оказываются вполне конкретными выражениями бытия, формами его воспроизводства, обновления жизни и деятельности людей. Таким образом, пространство и время создают основу для нормативной регуляции общественного взаимодействия, определяют ритм практической, познавательной деятельности людей 1 .
п рименительно к пониманию места и роли категорий пространства и времени в геополитике вышесказанное имеет методологическое значение, поскольку позволяет рассматривать их ( пространство и время. – А. Г. ) не только как чистые абстракции, умозрительно, спекулятивно, но и через призму конкретных представлений. Ч-то мы имеем в виду? Прежде всего то, что геополитика, не являясь чисто природным или чисто социальным феноменом, имеет безусловный «крен» в сторону социального. В этой связи будет уместно напомнить о категориях социально-го/политического пространства и социального/политического времени, характеризующих социальное/политическое бытие как процесс сочетающихся и сменяющих друг друга деятельностей людей.
Социальное/политическое пространство и социальное/полити-ческое время постоянно действуют на уровне бытия социальных/ политических индивидов как условия связанности, непрерывности, организованности социального/политического процесса. По сути мы имеем дело с социальными/политически связями, кооперирующими последовательности и сочетания человеческих сил, действий и их воплощений2.
ГОРБУНОВ Александр Александрович – профессор, директор Гуманитарного института Московского государственного университета путей сообщения
В контексте данной статьи это тем более важно подчеркнуть, потому что и в социальном/политическом пространстве, и в соци-альном/политическом времени выпукло выражен акцент на своем иммаментном коммуникативном аспекте, предстающим в виде социальных/политических связей, кооперирующих последовательности социального/политического пространства и сочетания человеческих сил, действий и их воплощений.
Мы, однако, не можем ограничиться такой постановкой вопроса, не выяснив диалектику взаимодействия социального/полити-ческого пространства и социального/политического времени. Это необходимо прежде всего для понимания геополитической сути категории «пространство».
В этой связи хотелось бы высказаться по поводу точки зрения А-. С. Панарина (исследователя глубокого и оригинального) о якобы имеющемся приоритете категории «время» над категорией «пространство». Сегодня, утверждал А-. С. Панарин, налицо «кризис классической категории времени», и чем больше этот «кризис времени», тем ощутимее реванш категории пространства».
На первый взгляд, дело обстоит именно так. Действительно, традиционные формы общества обладали пространственными характеристиками социального бытия, выражающими время, и подчиняли себе его измерение. В чем это выражалось? Прежде всего в характерном для традиционных обществ замедленных темпах времени и, следовательно, социальных изменений.
В новое время, в ходе формирования индустриального и постиндустриального общества осуществляется «переворачивание» этой зависимости: время становится главным измерителем социальных качеств людей и вещей. Любые человеческие силы действия и способности сводятся к средним или необходимым затратам времени. Они могут передаваться в социальном процессе, обмениваются, складываются в общую сумму. За счет этого образуется некоторое однородное пространство, выражаемое в формах времени. Но это только одна сторона дела.
Однородность социального времени оказывается элементарным, но крайне необходимым условием связывания различных деятельностей. Она позволяет редуцировать разнообразные акты к общим эталонам, но не является достаточной для обнаружения, соизмерения, стимулирования качественно своеобразных и сложных переплетений индивидуальной и совместной деятельности людей. При исследовании геополитического смысла категории «пространство» мы воочию видим, в чем конкретно воплощаются разнокачественные человеческие деятельности связи с социальным пространством и пространством вообще.
Для геополитики как науки понятие «пространство» является фундаментальным. «Национальный суверенитет государства, обосновывает это положе- ние Е-. Е-. Р-умянцева, зависит не столько от его военной силы, технологического развития и экономической базы, сколько от величины и географического местоположения его земель и территорий. Государство и территория есть единое целое»1.
Государство и «империя» есть особые виды «пространства», причем это не плохо, не хорошо, а только определенным образом характеризует коммуникацию и социально-политическое действие в различном масштабе, в том числе в аспекте геополитической стратегии страны в целом.
Е-. Е-. Р-умянцева считает, и не без оснований, что в геополитике принята следующая пространственная типология: а) «государство-нация», то есть традиционное, исторически сложившееся централистское государство (такое, как Франция, Италия, Германия, Испания и т. д.); б) регион, то есть такое административное, этническое или культурное пространство, которое является частью одного или нескольких государств-наций, но при этом обладает значительной степенью культурно-экономической автономии (например, Б-ретань во Франции, Фландрия в Б-ельгии, Каталония, Галисия и страна Б-асков в Испании и т. д.); в) политическое «большое пространство» – содружество или сообщество, которое объединяет несколько государств-наций в единый экономический или политический блок2.
Досадно, однако, что Е-. Е-. Р-умянцева в «Новой экономической энциклопедии», изданной в Р-оссии и для россиян, почему-то не обозначает в приведенных ею типологиях место в них Р-оссии. Наверное, для этого есть причины, тем более что приведенная Е-. Е-. Р-умянцевой пространственная типология далеко не единственная.
В циклическом ряду «географические факторы ( в первую очередь пространство. – А. Г. ) – национальные интересы – геополитический сценарий – политическая воля – политические условия – геополитические факторы – геополитические цели – геополитический потенциал
– геополитический статус – геополитическая конфигурация» проявляются основные закономерности геополитики, определяющие общую расстановку сил на мировой арене (или в регионе).
Отсюда следует вывод: действительно базовыми (первичными) и наиболее устойчивыми являются в геополитике географические факторы, присущие государству с момента его образования – географическое положение, размеры, территории, климат, наличие природных ресурсов, в общем, все то, что уместно объединить в целом термином «географическое пространство». Изменение этих параметров путем территориальных потерь (или приобретений) во всем мире и во все времена признавалось и признается самым серьезным обстоятельством.
Считалось даже, что, как правило, только война или другие насильственные действия способны изменить эти параметры. С последним, полагаем, трудно согласиться, в том числе, в свете, к примеру недавних подвижек в сфере российско-китайских отношений, когда, после соответствующих переговоров, Р-оссия пошла на территориальные уступки Китаю без всяких «насильственных действий» со стороны КНР-. Е-сть и другие примеры на этот счет. Другими словами, война и другие насильственные действия в современном мире уже не являются единственными средствами изменения территориальных, географических, геополитических параметров или условий.
Е-сть атрибуты государства, которые выражают более динамичные параметры: политические, социально-экономические показатели государственной жизни. Эти показатели в большой степени зависят от внутренних и внешних политических условий существования государства как отражение проводимой государством внутренней и внешней политики. В таком случае становится ясной и определенной стратегия, выступающая как политическая воля государства, его способность реализовать ту или иную геополитическую установку, которая выстраивается как квинтэссенция геополитических, национальных интересов страны и государства. Можно сказать и более точно: интересы страны подразделяются на интересы внутригосударственные и интересы геополитические: и те, и другие объективно находятся под сильным влия- нием географических, пространственных атрибутов, изначально обусловливающих геополитическое положение государства, его геополитическую стратегию, его историческую роль и перспективы.
Вот почему государства, а не цивилизации и не регионы (вопреки определяющимся сегодня линиям аргументации) и в XXI веке остаются на мировой арене главным действующим лицом. У цивилизации и регионов нет единых правительств, парламента, армии, правосудия и т. п. У государства – есть, и все вышеназванные институты формируют, реализуют и защищают государственные интересы, среди которых и географическое пространство как базовый (первичный) фактор, лежащий в его (государства) основании.
Стоит четко себе представлять, с чего начиналась наука геополитика. По Р-атцелю, который по праву считается предтечей современной геополитической мысли, доминирующие позиции в мире обеспечивает государству значительное жизненное пространство и государство должно постоянно стремиться к его расширению.
Пространство «тащит» коммуникации, коммуникации «осваивают» пространство, они делают его насыщенным, обогащая естественные детали пространства, его климат, рельеф, гидрографическую сеть, физико-географическое положение, размер и конфигурацию территорий, характер естественных рубежей государств, регионов, географических районов и т. д.
Существует мнение, что роль этих «переменных» для геополитического анализа со времени становления геополитики как науки существенно снизилась, хотя признается, что они не утратили полностью своего значения. На взгляд, эти составляющие воздействия геополитических структур на традиционные «переменные» географического характера не только не теряют своего значения для геополитического фактора, а наоборот – усиливают его в коммуникационном аспекте. Именно поэтому нельзя сводить роль географических факторов только к учету стабильных естественно-географических условий, которые под воздействием коммуникаций становятся условно стабильными в пространственном протекании исторических процессов.
Коммуникационный же подход к геополитическим исследованиям позволяет увидеть в геополитических процессах одновременно и стабильность, и динамичность. Коммуникациями, как обручем, стягивается геополитическое пространство и в то же время оно заметно динамизируется.
Р-ассмотрим в этом аспекте проблему типологии пространства. Пока еще никто не дал точного определения геополитическому пространству, хотя им широко пользуются. Е-сли исходить из определения геополитики как некой проблемной области, основной задачей которой выступают фиксация и прогноз пространственных границ силовых полей, то само понятие «силовые поля» объясняет многое в отношении геополитического пространства. Понятие силового поля ассоциируется с пространством, контролируемым государством. Исходя из такого понимания, российский политолог К. В. Плешаков дает следующую классификацию геополитических полей:
-
1) эндемичное (местное) поле – пространство, контролируемое государством длительное время, достаточное для признания другими государствами как, несомненно, принадлежащее данному государству;
-
2) пограничное поле – это пространство, находящееся под контролемгосударст-ва, однако неосвоенное им в достаточной степени, чтобы слиться с эндемичным ( освоенным местным. – А. Г. ) полем, поэтому право контроля данного государства над этим полем может оспариваться;
-
3) перекрестное поле – это пространство, на которое претендуют два или более государств;
-
4) тотальное поле – это все непрерывное пространство, находящееся под контролем государства. Так, например, в глазах американских стратегов для США- такой территорией является территория всех государств, входящих в НА-ТО, а также собственное пространство Соединенных Штатов как государства, возглавляющего однополюсный мир1.
Геополитическое пространство в любом случае может быть представлено только совокупностью пространственных моделей.
Пограничное пространство или зона характеризуется протяженностью (длиной), шириной (глубиной) и насыщенностью (плотностью). Мы особо выделяем эти пространственные характеристики, поскольку они имеют существенное значение для данной статьи. Дело в том, что кроме пограничного пространства, существует еще такая его (пространства) разновидность, как политико-географическое пространство, приоритет в выделении которого принадлежит советским ученым в области политической географии К. Э. А-ксенову2 и Н. В. Каледину3. Характеризуя политико-географическое пространство, они заявляют, что это форма бытия политических феноменов и политико-географических объектов, их сосуществования, соразмеренности, взаимного расположения, взаимодействия, интенсивности и т. п.4
Для политико-географического пространства характерным является то, что в нем в опосредованной форме представлено физическое пространство в виде количественных и качественных характеристик – таких, как соразмерность, протяженность, форма дифференциации, связанность и мозаичность.
Исходя из указанных пространственных характеристик вкупе с политическими факторами, которые изучает политическая география, мы имеем дело с интегральным географическим пространством политической сферы. Интегральное географическое пространство состоит из экономического, социального, культурного, политического и физического пространства. При этом фундаментальная закономерность формирования географических условий и факторов политической деятельности – несовпадение «собственного времени» и изменения экономического, социального и политико-географических пространства.
Вообще-то иначе и быть не может, поскольку всей деятельностью социально- го общества «руководят» в первую очередь экономические соображения: как с наименьшими затратами сделать жизнь людей более комфортной, безопасной, приносящей больше удовлетворения. К этому в конечном счете сводятся все трудовые усилия людских сообществ. «Наиболее динамично экономико-географическое пространство, по сравнению с которым, как правило, социально-географическое пространство более инерционно. Е-ще медленнее изменяются многие элементы политико-географического пространства. Так, давно не существующие политические границы прекрасно выражены в пространстве, прослеживаются в культурном ландшафте и в политическом сознании.
В этой связи автор обращает внимание на вводимое им в практику научного исследования новое понятие геополитического плана – коммуникативное пространство. Коммуникативное пространство представляет собой такую форму бытия явлений, которое насыщает коммуникациями различного рода (железнодорожными, шоссейными, речными, теле-, радиосвязи и прочими) определенное геопространство, обуславливает степень его освоения или освоенности цивилизационными достижениями.
Коммуникативное пространство считается предельно освоенным, если геопространство, им определяемое, насыщено наибольшим числом видов, каналов коммуникационных связей.
Говоря о коммуникационном пространстве, следует еще раз обратить внимание на то, как значительно влияют различные коммуникации на характер явлений, которые мы называем социальным/ политическим пространством и соци-альным/политическим временем. Выше уже подчеркивалось, что коммуникации движутся, развиваются вслед за развитием геополитики, стимулируя в различных областях общественной практики инновации, нововведения. И, разумеется, это движение коммуникационного характера меняет и социальное/политическое пространство, и социальное/политическое время, в лоне которых оно возникает. Р-ождается эффект «стягивания» пространства и времени, практически, на уровне практики подтверждая философский тезис о единстве пространства и времени как философских категорий.
Все это реально происходит на наших глазах, когда мы слышим сообщения о строительстве новых железнодорожных путей сообщения, о новых шоссейных дорогах. Недавно, например, вступила в строй шоссейная дорога Ч-ита – Хабаровск, а это значит по большому счету, что огромное, почти трехтысячекилометровое пространство, достаточно безлюдное, безкоммуникативное, оказалось «стянутым» прочной коммуникацией в виде четырехрядного шоссе.
Даже этот небольшой пример для страны с необозримым территориальным пространством говорит о том огромном влиянии на обеспечение геостратегических интересов Р-оссии, которое связывается с расширением коммуникативного пространства. Пример, однако, становится совсем незначительным в соотносительном плане с жизненным пространством, которое занимает Р-оссия.
Любое пространство становится коммуникативным только тогда, когда оно (пространство как таковое) начинает работать, удовлетворять потребности общественного развития, а если быть точнее и конкретнее, то удовлетворять потребности людей. Так, например, в восточных районах Р-оссии сконцентрировано 90% запасов энергетического угля. Здесь же находятся основные запасы углеводородного, фосфорного и алюминийсодержащего сырья, алмазов, редких цветных и благородных металлов. Мы имеем по этому региону поразительные данные: 90% природного газа добывается здесь, 70% нефти, 100% алмазов, кобальта, платиноидов, апатитового концентрата, 90% меди, никеля, 2/3 золота, половина лесной и рыбной продукции.
ТольковзонеБ-айкало-А-мурскоймагист-рали (Б-А-М) потенциал недр оценивается в 0,5 триллиона долларов. В этой зоне открыто более 30 месторождений углеводородного сырья. Наиболее перспективные из них: Кавыктинское газовое, Верхнечонское нефтяное. Возможная годовая добыча нефти по всем нефтегазоносным областям этой зоны может достичь 28 миллионов тонн, в том числе на Вехрнечонском – до 10 миллионов тонн.
На Нерюгинском разрезе ежегодно добывается 15 млн. тонн угля, из них 5 млн. тонн экспортируется в Японию. В 30 км от станции Ч-ара находится А-псатское месторождение коксующегося угля, которое обладает запасом около 1 млрд. тонн. Эльчинское месторождение коксующихся углей только на первом этапе позволит добывать и отгружать 2 млн. тонн угля в год. Кроме того, в зоне Б-А-Ма разведаны значительные запасы энергетических углей. Их промышленное освоение может иметь большое значение для снабжения топливом Дальневосточного региона, испытывающего дефицит в энергетическом сырье.
Р-егион Б-А-М располагает 25% запасов свинца, половиной запасов цинка, четвертой частью запасов меди Р-оссии. Только в Ч-итинской области в 60 км от железнодорожной станции Ч-ара расположено уникальное Удоканское месторождение разведанных запасов меди, платины, золота, железа, ванадия, ниобия, титана, коксующегося угля, калийных удобрений. Удоканский минерально-сырьевой узел может быть сравним только с Норильским. По запасам меди – это мировой гигант, занимающий вторую позицию по рейтингу международного Медного клуба, а в А-зии – основного импортера меди (Китай, Япония, Корея) – первую.
Таким образом, при анализе характеристик того или иного пространства необходимо прогнозировать, насколько данное пространство перспективно с коммуникативной точки зрения, насколько оно адекватно отвечает потребностям населения того или иного региона, общества в целом и насколько оно (пространство)
усиливает геполитическую составляющую, зависящую от богатств недр, климата, рельефности данного пространства.
Это – важнейшие геополитические аспекты пространственного состояния территории страны, Р-оссии в целом, Сибирского и Дальневосточного регионов в частности. Е-сли исходить из слов М. В. Ломоносова, предвидевшего за 200 с лишним лет до нас, что богатство и могущество Р-оссии будут прирастать Сибирью и Северным Ледовитым океаном, то совершенно ясно, что такое приращение в большой мере зависит от того, будет ли создан транспортный рычаг для реализации этой задачи, являющейся, по большому счету, реализацией стратегии выведения Р-оссии в число наиболее развитых государств мира.
Сделать такой шаг будет возможно только в том случае, если Р-оссия задействует все пространство Сибири и Дальнего Востока в коммуникативном плане. Другими словами, когда Р-оссия «насытит» это пространство коммуникациями самого разного вида и толка, но в первую очередь коммуникациями железнодорожными и шоссейными. Лишь при этом условии произойдет широкое транспортное освоение восточных и северных территорий. Именно дороги, транспорт «пробуждают пространства» и «тянут» их на «своих плечах», преобразовывая их, «вдыхая в них жизнь», позволяя людям, обществу овладевать «подземными кладовыми богатств», о которых шла речь выше.