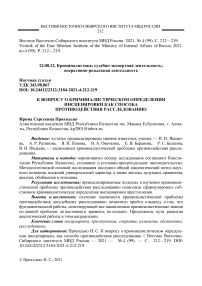К вопросу о криминалистическом определении инсценировки как способа противодействия расследованию
Автор: Приходько Ирина Сергеевна
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье проанализированы мнения известных ученых - И. Н. Якимова, А. Р. Ратинова, В. И. Попова, В. А. Овечкина, Е. В. Баранова, Р. С. Белкина, В. И. Фадеева, - касающихся криминалистической проблемы противодействия расследованию. Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Республики Казахстан, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также методы дедукции, сравнения, анализа, обобщения и описания. Результат исследования: проанализированные подходы в изучении криминалистической проблемы противодействия расследованию позволили сформулировать собственное криминалистическое определение инсценировки преступления. Выводы и заключения: изучение значимости криминалистической проблемы противодействия досудебному расследованию позволило прийти к выводу о том, что фундаментальной работы, синтезирующей все накопленные криминалистические знания по данной проблеме до настоящего времени, не создано. Предложены пути развития аналитической работы в этом направлении.
Инсценировка, преступление, сокрытие, изменение, обстановка, расследование
Короткий адрес: https://sciup.org/143177980
IDR: 143177980 | УДК: 343.98.067 | DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-212-219
Текст научной статьи К вопросу о криминалистическом определении инсценировки как способа противодействия расследованию
В настоящее время является бесспорным тот факт, что системная деятельность по раскрытию и расследованию уголовных правонарушений заключается не только в планомерном собирании и исследовании криминалистически значимой информации. Значительный пласт деятельности лица, осуществляющего расследование, составляет соотнесенный анализ совершенно различных объектов и обстоятельств, составляющих то, что в современной криминалистической науке принято называть механизмом совершения преступления. И совершенно ясно, что такой анализ априори невозможен без качественного методологически и методически подкрепленного инструментария.
Современная криминалистическая наука в своей системе выработала целые блоки криминалистических приемов, средств и методов, позволяющих эффективно использовать всю имеющуюся в распоряжении органа, осуществляющего досудебное расследование, как актуальную, так и потенциальную криминалистически значимую информацию. Вместе с тем наблюдающийся рост квалификации преступников, их информацион- ная насыщенность, а также осведомленность о методах деятельности правоохранительных органов зачастую создают такие следственные ситуации, которые весьма негативно сказываются на эффективности и результатах расследования.
В этом контексте существенное значение приобретают методики работы лица, ведущего уголовный процесс в условиях конфликтной следственной ситуации, либо в условиях следственной ситуации, сопряженной с оказанием различного противодействия органам досудебного расследования со стороны преступников.
Как свидетельствует следственная практика, способы противодействия преступников, органам, осуществляющим досудебное расследование, многообразны по своему содержанию и направленности. Они могут обладать различной степенью агрессии и, соответственно, различной степенью общественной опасности.
К сожалению, как показало проведенное автором настоящей статьи исследование, криминалистическая проблема противодействия расследованию не пользуется популярностью у ученых-криминалистов. Не принимая во внимание причины такой «нелюбви», в свою очередь, отметим, что диссертации, посвященные данной проблематике, все-таки защищаются с определенной периодичностью, но фундаментальная работа, синтезирующая все накопленные криминалистические знания по данной проблеме, до настоящего времени ещё не создана. В качестве примера можно представить тот факт, что последняя диссертация на соискание ученой степени доктора наук «Сокрытие преступлений, как форма противодействия расследованию» была защищена И. А. Николайчук в 2000 году, т. е. более 20 лет назад [1]. Именно подобные обстоятельства обусловили сложившуюся на сегодняшний день ситуацию со множеством различных классификаций и определений, форм и способов противодействия расследованию.
Именно благодаря этому абсолютное большинство авторов, в сферу интересов которых входят криминалистические проблемы противодействия досудебному расследованию, различны в подходах к одному из наиболее специфичных способов противодействия досудебному расследованию — инсценировке преступления.
Оговоримся, что применение к инсценировке термина — «способ противодействия расследованию» совсем не исключает возможности использования термина «форма противодействия расследованию». Это обстоятельство обусловлено тем, что инсценировка может выступать как в роли самостоятельной формы противодействия расследованию, так и в качестве способа, являющегося элементом другой формы противодействия. Так, например, инсценировка может являться определенной составляющей такой формы противодействия расследованию как сокрытие преступления.
Особое значение инсценировка приобретает при ее рассмотрении в системе механизма преступления как составной части способа его совершения. Так, в своей работе «Способы сокрытия преступления и его место в структуре способа совершения преступления» П. В. Малышкин достаточно логично считает, что действия лица, расследующего преступление данной категории, зависят от действий преступника, направленных на сокрытие преступления [2, с. 51—52]. И именно эти обстоятельства, полагаем, особенно подкрепленные низким уровнем методической обеспеченности криминалистическим инструментарием распознавания инсценировки, обусловливают низкую эффективность процессов расследования. Усугубляются эти обстоятельства тем, что такая маскировка преступлений как инсценировка и дезинформация очень часто используются пре- ступниками для сокрытия наиболее опасных видов преступлений, например, убийств, тяжкого вреда здоровью, изнасилований и др.
Следует обратить внимание на то, что в общем массиве преступлений количество фактов инсценировок преступных деяний отследить довольно непросто. Однако, учитывая опыт практической деятельности можно сделать вывод о том, что преступлений подобного характера регистрируется значительное количество.
Вполне обычными являются инсценировки преступлений против собственности (грабежей и разбоев), совершаемых с целью сокрытия масштабных хищений.
Так, например, 29 сентября 2017 года в городе Воронеже Российской Федерации сотрудниками службы экономических расследований при содействии правоохранительных органов России задержан гражданин Республики Казахстан Лакомкин Д. А. , который в сентябре 2016 года инсценировал собственную смерть на территории России и был признан умершим1. Таким образом, гражданин Лакомкин хотел избежать наказание, предусмотренное сразу тремя статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан — ст. 215 ч. 3 («лжепредпринимательство»), ст. 245 ч. 3 («уклонение от уплаты налогов»), ст. 262 ч. 1 и 2 («создание и руководство ОПГ»).
Также следует отметить сложность расследования инсценировок преступного поведения в тех случаях, когда в действиях подозреваемых не содержалось состава преступления, а сама инсценировка могла быть совершена из различных побуждений, например, по мотивам мести, с целью привлечения подозреваемого к уголовной ответственности. Подобные инсценировки, по своей сути и содержанию не являясь преступлением, вместе с тем отвлекают значительные силы и средства правоохранительных органов для своего расследования.
Указанные нами обстоятельства в целом свидетельствуют о насущной необходимости организации статистического отслеживания всех установленных фактов инсценировок уголовных правонарушений с последующим изучением мотивов и целей их осуществления, классификации по использованным способам и степени общественной опасности, по примененным методам распознавания и расследования. Такая деятельность на фоне низкого уровня осведомленности лиц, осуществляющих досудебное расследование, о способах распознавания и расследования инсценировок и маскировок уголовных правонарушений, позволит в конечном итоге сформировать некую информационно-аналитическую базу, на основе которой в последующем возможна разработка эффективных методик распознавания и расследования рассматриваемых явлений.
Говоря о проблеме инсценировки в системе криминалистической науки, нельзя не сказать о том, что различные аспекты этого явления в той или иной степени затрагивались практически всеми известными учеными-криминалистами. Так, инсценировка как способ сокрытия преступления затрагивалась в трудах О. Я. Баева, Е. В. Баранова, Р. С. Белкина, B. C. Бурдановой, А. Н. Васильева, И. А. Возгрина, Г. А. Густова, В. Е. Коноваловой, И. М. Лузгина, Г. Н. Мудьюгина, В. А. Образцова, В. А. Овечкина, В. И. Фадеева, В. И. Шиканова и т. д.
Между тем проблема определения криминалистических подходов к инсценировке, к ее семантическому и содержательному определению в понятийной части не является новой для криминалистической науки.
Способы, приемы, криминальные средства, используемые лицами, совершающими преступления, привлекли внимание ученых-криминалистов еще на заре становления криминалистической науки. Первоначально приемы и средства, используемые в целях инсценировки преступных действий, чаще всего, криминалисты называли термином «симуляция».
Например, И. Н. Якимов в своем труде «Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике» рассмотрел значительное число приемов, используемых преступниками в целях снятия с себя подозрений в совершении преступления. Рассматривая «симуляцию преступления», И. Н. Якимов, отмечал, что она наиболее часто выражена в принудительном, часто очень значительном изменении обстановки места преступления или же, наоборот, в приведении изменившейся обстановки в первоначальный порядок [3, с. 126—127].
Вместе с тем нельзя не согласиться с точкой зрения А. Р. Ратинова, который справедливо считал, что явление, являющееся элементом поведенческого отражения личности, не может быть применено к обстановке места преступления. Иначе говоря, это, по его мнению, инсценировка, которая заключается не просто в изменении или уничтожении тех или иных следов, а в создании ложной обстановки места преступления [4, с. 248—250].
По мнению В. И. Попова, инсценировку как способ сокрытия преступления можно определить, как некое искусственное создание обстановки на месте происшествия, которая впоследствии, при ее исследовании следователем, введет последнего в заблуждение.
-
В . И. Попов в своем определении понятия «инсценировка преступления» впервые в истории криминалистической науки ввел две основные новеллы:
-
— во-первых, в понятийную часть криминалистики введено само понятие «инсценировка», замещая термин «симуляция» применительно к преступлению;
-
— во-вторых, автором сделано утверждение, о том, что в случае с инсценировкой преступления совершенно не обязательно вести речь о создании обстановки именно преступного поведения, вполне возможна маскировка действий лиц, совершивших преступление под событие некриминального характера. Например, убийство может быть замаскировано под несчастный случай или самоубийство [5, с. 25].
Подобное определение понятия «инсценировка», как видится, в полной мере свидетельствует о сложившихся подходах к этому явлению уже в середине прошлого столетия.
Между тем попытки поиска определения, наиболее объективно отражающего криминалистическую сущность инсценировки, на этом не были прекращены.
Так, уже к концу 70-х годов XX века известным ученым-криминалистом В. А. Овечкиным была предпринята очередная попытка определения инсценировки. В целом его определение не отличалось от ранее данных. Основное отличие заключалось лишь в том, что В. А. Овечкин предложил под инсценировкой понимать не только действия, направленные на изменение первоначальной обстановки преступления или дей- ствия, направленные на сокрытие этого преступления. Однако, по его мнению, инсценировка — это и уже измененная обстановка места происшествия [6, с. 97—98].
Такой подход нам представляется более логичным, нежели приведенные выше. Это связано с тем объективным обстоятельством, что инсценировка может рассматриваться не только как деятельностный процесс, но и как сложившаяся на месте происшествия вещная обстановка. Вместе с тем понимание инсценировки только как деятельностного процесса, несмотря на стройность логических суждений, приведенных В. А. Овечкиным, являлось устойчивым для ученых-криминалистов того времени. Примером тому может служить определение инсценировки, предложенное Е. В. Барановым [7, с. 18].
Вполне согласуется с представленными выше определение, предложенное Е. В. Барановым. По его мнению, на первое место в определении также выходит деятельностная составляющая. Иными словами, опорным моментом является именно умышленное создание обстановки, которая не соответствует обстоятельствам совершения преступления [8, с. 386].
В определении, предложенном Р. С. Белкиным, впервые определяется сущность и содержание дефиниции «инсценировка» посредством использования ряда обоснованных таксонометрических признаков, выступающих в качестве оснований для классификации различных видов инсценировок.
Значительное развитие криминалистические представления об инсценировке получили благодаря исследованию, проведенному В. И Фадеевым в работе «Расследование криминальных инсценировок». Оценивая существовавшие ранее определения инсценировки, В. И Фадеев делает обоснованный вывод о фактической неполноте их содержания. Это, по его мнению, связано, прежде всего, со стремлением всех авторов, обращавшихся к данной проблеме, сузить содержание инсценировки посредством сведения ее только к способу сокрытия преступления. При этом В. И Фадеев представляет инсценировку не только как способ действия, преследующий своей целью сокрытие преступления, но и как результат такой деятельности [9].
Основываясь на таком подходе, В. И. Фадеев предложил собственное определение инсценировки. По его мнению, «криминальная инсценировка — это деятельность субъекта преступления по сокрытию (видоизменению) совершенного преступления (аморального поступка) и (или) совершению преступления, характеризующаяся умышленным созданием ложной субъектной, предметной, пространственной, временной, информационной, следовой обстановки, скрывающей умысел и цели преступника» [9, с. 24].
В общем, соглашаясь с предлагаемым определением, считаем его не в полной мере отражающим сущность и содержание рассматриваемого явления.
Так, полагаем, стоит полностью согласиться с позицией В. И. Фадеева относительно того, что современное криминалистическое понимание инсценировки должно охватывать не только деятельность по созданию обстановки, противоречащей объективной стороне совершенного преступления, по своей сути, выражаясь в способе сокрытия преступления, как элементе способа и механизма совершения преступления. Не вызывает спора и тот факт, что это определение в своей структуре должно также отражать и обстановку места происшествия, сложившуюся как результат такой деятельности. Между тем далеко не всякая инсценировка образует самостоятельный состав преступления, являясь только элементом способа совершения преступления. Поэтому тер- мин «криминальная инсценировка», как видим, является не вполне корректным. Он (термин) по своему семантическому наполнению описывает только те случаи, когда уже факт завершенной инсценировки или ее осуществления сам по себе является уголовным правонарушением. Такой подход, думается, значительно сужает объект определения.
Следующим спорным, по мнению автора статьи, моментом определения является обозначение лица, осуществляющего инсценировку, как субъекта преступления. Отметим, что в некоторых случаях действия лица по своему содержанию хотя и образуют состав преступления, но в ряде случаев по уголовному законодательству оно не является субъектом преступления.
Так, в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Республики Казахстан уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. За некоторые преступления возраст наступления уголовной ответственности может быть снижен до 14 лет1. Иначе говоря, фактически лицо совершившее преступление и инсценировку для его сокрытия, вполне может и не являться субъектом преступления.
Также следует отметить, что в основу определения не положены цели инсценировки, хотя, следуя содержанию термина «криминальная инсценировка», полагаем, что В. И. Фадеев сознательно вывел из определения все виды инсценировок, связанные с маскировкой действий, не являющихся преступлениями под, собственно, преступления.
Исходя из сказанного выше, рискнем предложить собственный подход к криминалистическому определению инсценировки. Так, предлагаем под инсценировкой преступления понимать действия лица, совершившего преступление, направленные на изменение первоначальной обстановки места совершения преступления, характеризующиеся умышленным созданием ложной субъектной, предметной, пространственной, временной, информационной, следовой обстановки, скрывающей умысел и цели преступника, осуществляемые в целях противодействия расследованию, а также результат таких действий в виде изменившейся обстановки места преступления.
В заключение необходимо отметить, указанное определение, как представляется, может по своему содержанию обозначить основные направления работы по статистическому анализу инсценировок преступлений в том случае, если будет принято волевое решение о ведении такого статистического учета, как предлагалось выше.
Список литературы К вопросу о криминалистическом определении инсценировки как способа противодействия расследованию
- Николайчук И. А. Сокрытие преступлений, как форма противодействия расследованию: дис..д-ра юрид. наук. - Краснодар, 2000. - 360 с.
- Малышкин П. В. Вопросы детерминации преступных инсценировок // Следователь. - 2009. - № 3. - 168 с.
- Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое издание, перепечатанное с издания 1925 г. / И. Н. Якимов. - М.: ЛексЭст, 2003. - 496 c.
- Судебная психология для следователей: учеб. пособ. / А. Р. Ратинов. - М.: НИиРИО ВШ МООП РСФСР, 1967. - 290 с.
- Мартыненко Р. Г. Коммуникативное противодействие расследованию: способы, выявление, преодоление: дис.. канд. юрид. наук. - Краснодар, 2004. - 194 с.
- Овечкин В. А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: дис.. канд. юрид. наук. - Харьков, 1975. - 176 с.
- Баранов Е. В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений: автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1977. - 18 с.
- Криминалистика: курс лек. / В. А. Образцов. - М.: Право и Закон, 1996. - 386 с.
- Расследование криминальных инсценировок / В. И. Фадеев. - М.: Норма, 2007. - 160 с.