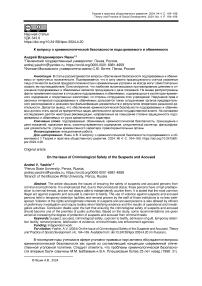К вопросу о криминологической безопасности подозреваемого и обвиняемого
Автор: Яшин А.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности подозреваемых и обвиняемых от преступных посягательств. Подчеркивается, что в силу своего процессуального статуса указанные лица отличаются высокой предрасположенностью к криминальным угрозам и не всегда могут самостоятельно оказать им противодействие. Констатируется, что наиболее встречающимся противоправным деянием в отношении подозреваемых и обвиняемых является принуждение к даче показаний. Не менее распространены факты применения насилия в отношении подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах, со стороны сотрудников этих учреждений. Нарушение прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых допускается также сотрудниками органов предварительного расследования и дознания при фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Делается вывод, что обеспечение криминологической безопасности подозреваемых и обвиняемых должно стать одной из приоритетных задач деятельности органов государственной власти. На основании исследования даются некоторые рекомендации, направленные на повышение степени защищенности подозреваемых и обвиняемых от угроз криминогенного характера.
Подозреваемый, обвиняемый, криминологическая безопасность, принуждение к даче показаний, признание вины, изолятор временного содержания, следственный изолятор, фальсификация доказательств, угрозы криминогенного характера, правоохранительные органы
Короткий адрес: https://sciup.org/149145287
IDR: 149145287 | УДК: 343.9 | DOI: 10.24158/tipor.2024.4.20
Текст научной статьи К вопросу о криминологической безопасности подозреваемого и обвиняемого
1Пензенский государственный университет, Пенза, Россия, , 2Филиал Московского университета имени С.Ю. Витте, Пенза, Россия
,
В настоящее время криминологическая безопасность рассматривается в качестве структурной единицы национальной безопасности, обеспечивающей состояние защищенности личности, общества и государства от преступных посягательств (Прозументов, Шеслер, 2019: 57). Схожие по содержанию дефиниции криминологической безопасности представлены в трудах А.И. Савельева (2019: 49); С.С. Босхолова, Е.З., Сидоровой (2020: 68); С.Я. Лебедева (2021: 89) и многих других авторов. Согласно мнению зарубежных исследователей, криминологическая безопасность обеспечивает уровень защищенности всего общества от преступности (Displacement of crime…, 2014: 516). Таким образом, криминологическая безопасность предполагает защиту различных объектов от угроз криминального характера. Из доктринальных объяснений криминологической безопасности следует, что ее объектами являются личность, общество и государство.
Нельзя не солидаризироваться с авторами, полагающими, что в современных условиях обеспечение криминологической безопасности личности относится к приоритетным направлениям деятельности государства (Колоткина, Ягофарова, 2023: 45). Это связано с тем, что на сегодняшний день в стране нарастают криминальные угрозы, существенно затрагивающие права, свободы и законные интересы личности. Во многом это обусловлено мировой нестабильностью, политическими и экономическими изменениями, происходящими в современном обществе, правовым нигилизмом, что приводит к напряженности и тревожности граждан.
Представляется, что наиболее предрасположенными к угрозам криминального характера являются лица, которые в силу своих социальных ролей не могут не только самостоятельно оказывать противодействие преступным посягательствам, но и надеяться на соответствующую помощь со стороны субъектов, обязанных ее оказывать. К таким лицам можно отнести отдельных участников уголовного судопроизводства, в частности подозреваемого и обвиняемого. Будучи вовлеченными в сферу уголовного процесса, они нередко подвергаются противоправным воздействиям со стороны следователей, дознавателей, органов дознания, работников изоляторов временного содержания, следственных изоляторов и других сотрудников правоохранительных органов.
В целях получения признательных показаний, скорейшего раскрытия преступлений, проявления активности перед руководством, а порой из склонности к унижению и издевательству такие сотрудники причиняют моральный и физический вред подозреваемым и обвиняемым, которые в связи со сложившейся ситуацией не могут себя защитить. Данные деяния не только причиняют вред правам и свободам указанных участников уголовного судопроизводства, но и снижают уровень доверия общества к органам государственной власти, приводят к отчужденности населения от правоохранительной системы, а также иным негативным последствиям. В связи с этим исследование проблем обеспечения криминологической безопасности подозреваемых и обвиняемых представляется актуальным как в теоретическом аспекте, так и в прикладном.
Подозреваемые и обвиняемые, в соответствии со ст. 46 и 47 УПК РФ, относятся к участникам уголовного судопроизводства со стороны защиты. Это означает, что им предоставлено право защищаться от подозрения и обвинения в совершении общественно опасных деяний любыми, не запрещенными законом, способами, т. е. полноправно состязаться со стороной обвинения. Однако сам процессуальный статус таких лиц нередко ставит их в проигрышное положение, особенно если они содержатся под стражей. Не исправляет данную ситуацию и возможность участия в уголовном деле защитника, поскольку зачастую противоправное воздействие в отношении подозреваемых и обвиняемых происходит до его прихода и общения с подозреваемыми и обвиняемыми. Кроме того, нарушение прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых может осуществляться и опосредованно, путем фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, о чем может не знать участвующий в деле защитник.
Самым распространенным противоправным воздействием в отношении подозреваемых и обвиняемых, безусловно, является принуждение к даче показаний. В юридической литературе совершенно обоснованно отмечается, что данное деяние посягает не только на интересы правосудия, но и на права, свободы и законные интересы участников уголовного процесса (Булатов, Борков, 2023: 166). Следует полагать, что из перечня потерпевших, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 302 УК РФ, наибольшее давление со стороны сотрудников правоохранительных органов испытывают лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. Это неудивительно, поскольку от их показаний зачастую зависит не только «успешный» для стороны обвинения исход уголовного дела, но и результативность деятельности оперативных подразделений и иных сотрудников органа дознания.
Это во многом связано с тем, что в последнее время признание лица в совершении общественно опасного деяния становится неопровержимым доказательством его вины. Нередко сотрудники органа дознания, дознаватели, следователи убеждают подозреваемых (обвиняемых) дать признательные показания, демонстрируя при этом нормы уголовно-процессуального законодательства о том, что к ним в обмен на признание суд отнесется более снисходительно. Дей- ствительно, УПК РФ предусматривает снижение наказания в определенных ситуациях при признании подозреваемым (обвиняемым) своей вины. В частности, это оговаривается в ст. 226.9, 316 УПК РФ, из содержания которых следует, что основным доказательством по уголовному делу в предусмотренных ими случаях является именно признание вины.
Представляется, что такой подход к доказыванию противоправного события и оценки доказательств не всегда является оправданным, поскольку он может привести к осуждению невиновного лица. Сотрудники правоохранительных органов, заинтересованные в раскрытии преступления, в ряде случаев уговаривают признаться подозреваемого (обвиняемого) в преступлении, в совершении которого не представилось возможным собрать доказательства, либо в деянии, которого он не совершал в действительности. В случае если такие уговоры не производят должного эффекта, к соответствующим участникам уголовного судопроизводства применяются меры различного физического и психического принуждения, в том числе пытки.
Поэтому необходимо критически относиться к мнению авторов, всецело поддерживающих упрощенные процедуры доказывания и полагающих, что при принятии решения по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести определяющим фактором является признание подозреваемого и (или) обвиняемого (Гирько, 2019: 63). Материалы судебно-следственной практики свидетельствуют о том, что преступления небольшой и средней тяжести зачастую совершаются лицами с низким социальным статусом – без определенного места жительства, безработными, страдающими алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и т. п. Такие субъекты не способны себя защитить и довольно легко поддаются влиянию со стороны сотрудников правоохранительных органов. Данных лиц несложно уговорить либо принудить к даче показаний против себя в тех случаях, когда никаких иных доказательств их вины добыто не было, или к самооговору.
Важно отметить, что преступления, связанные с принуждением к даче показаний, отличаются высоким уровнем латентности. Согласно официальным статистическим показателям, преступления, предусмотренные в ст. 302 УК РФ, регистрируются в единичных случаях. Так, в 2020 г. было зарегистрировано два таких преступления, в 2021 и 2022 – по одному, причем с 2020 по 2022 г. по ст. 302 УК РФ не было осуждено ни одного лица1.
Тем не менее, согласно результатам проведенного нами в 2022–2023 гг. социологического опроса, из более чем 100 лиц, имеющих процессуальный статус подозреваемого и обвиняемого, принуждение в целях дачи ими показаний применялось в отношении 14,5 % подозреваемых и 5,8 % обвиняемых. Таким образом, практически пятая часть от общего количества указанных участников уголовного судопроизводства подвергается принудительному воздействию в целях получения от них доказательств в виде показаний.
Стоит подчеркнуть, что подозреваемые и обвиняемые подвергаются физическому и психическому насилию не только для принуждения к даче показаний. Лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах, нередко претерпевают насильственные действия и пытки от сотрудников этих учреждений. Такие правонарушители могут преследовать разные цели – наказать подозреваемого (обвиняемого) за различные нарушения, заставить отказаться от своих убеждений, подчинить себе, вынудить сотрудничать с ними и т. п. Зачастую сотрудники изоляторов временного содержания и следственных изоляторов применяют насилие к подозреваемым (обвиняемым) из чувства неприязни к ним, ради получения удовольствия от издевательства над лицами, не могущими дать отпор.
Наличествуют и случаи применения насилия к подозреваемым и обвиняемым сотрудниками указанных учреждений по указанию руководства. В юридической литературе мотивы таких деяний называют карьерными (Селиверстов, 2022: 400), поскольку служащие изоляторов временного содержания и следственных изоляторов применяют насилие вследствие строгой дисциплины личного состава, преимущественно опасаясь увольнения либо возникновения препятствий для построения дальнейшей карьеры.
Например, 29 апреля 2022 г. Кировским районным судом г. Махачкалы за совершение ряда преступлений, в том числе предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы осужден гр. С. В судебном заседании установлено, что С., занимая должность младшего инспектора дежурной службы следственного изолятора г. Махачкалы, по негласному распоряжению заместителя начальника следственного изолятора применил насилие к обвиняемому, заключенному под стражу, причинив ему телесные повреждения в виде рубца лица и деформации ушных раковин2.
Надлежит заметить, что права и законные интересы подозреваемых (обвиняемых) нарушаются не только посредством применения к ним физического или психического насилия. Нередки случаи фальсификации следователями, дознавателями и сотрудниками органа дознания доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. При таких обстоятельствах принимаются процессуальные решения, основанные на недостоверной информации, влекущие за собой неблагоприятные последствия для подозреваемых и обвиняемых в виде необоснованного и незаконного привлечения их к уголовной ответственности, избрания более строгой меры пресечения, направления уголовного дела в суд для назначения наказания и т. п. Неслучайно многие авторы отмечают высокую общественную опасность преступлений, связанных с фальсификацией доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, поскольку даже один факт такой фальсификации существенно нарушает права и свободы участников процесса (Ра-ненкова, Никоноров, 2021: 67–68).
Тем не менее в практической деятельности нередки случаи совокупности применения в отношении подозреваемых (обвиняемых) незаконных мер воздействия, включающих в себя применение насилия, фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности и иных деликтов. Это связано с тем, что подозреваемые и обвиняемые являются одними из самых уязвимых участников уголовного судопроизводства в силу предусмотренного законом процессуального статуса. Согласно исследованиям, из всех лиц, участвующих в уголовном процессе, только в отношении свидетелей и потерпевших интенсивность противоправного воздействия выше, чем в отношении подозреваемых и обвиняемых (Яшин, 2020: 238).
Это происходит в силу того, что меры, которые принимаются государственными органами по обеспечению безопасности подозреваемых и обвиняемых, недостаточно эффективны. Они сводятся к защите указанных участников уголовного судопроизводства преимущественно уголовнопроцессуальными инструментами и отчасти средствами уголовно-правовой охраны. Не решают проблемы и мероприятия, проводимые в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Уже из наименования данного нормативного правового акта следует, что государственной защите по большей части подлежат свидетели и потерпевшие, хотя в соответствии со ст. 2 данного закона к лицам, подлежащим государственной защите, относятся в числе прочих подозреваемый и обвиняемый1.
Вследствие этого необходимо рассматривать подозреваемого (обвиняемого) не только в качестве участника уголовного судопроизводства, но и как отдельную личность, право на безопасность которой должно обусловливать реализацию ее остальных прав, в том числе процессуальных. Многие проблемы, связанные с нарушением прав, свобод и законных интересов подозреваемого (обвиняемого), заключаются в том, что сотрудники государственных органов рассматривают его не как индивида со своими собственными взглядами, убеждениями, достоинствами и недостатками, а как состоявшегося преступника, который не достоин уважения и внимания. В таком контексте под криминологической безопасностью подозреваемого (обвиняемого) следует понимать состояние защищенности прав, свобод и законных интересов личности, подверженной в силу соответствующего процессуального статуса повышенному риску совершения в отношении нее противоправных посягательств, от угроз криминогенного характера. При этом основными задачами государственных органов должны быть не только безопасное обращение с подозреваемым (обвиняемым), но и противодействие криминальным угрозам и проявлениям в отношении него.
Исходя из указанного, соответствующие органы государственной власти должны немедленно реагировать на противоправные посягательства в отношении подозреваемых и обвиняемых, особенно содержащихся под стражей. Думается, что давно назрела необходимость не только в разработке эффективных программ противодействия преступности сотрудников правоохранительных органов, но и в укреплении профессионального ядра всей системы обеспечения правопорядка.
К сожалению, в настоящее время правоохранительные структуры, особенно органы внутренних дел, испытывают недостаток в профессиональном кадровом обеспечении. Многие подразделения не укомплектованы личным составом, сотрудники увольняются со службы. Об этом неоднократно заявлял министр внутренних дел России В.А. Колокольцев, отмечая, что некомплект сотрудников уже достиг критического значения2. Далеко не все правоохранители заинтересованы в добросовестном исполнении служебных обязанностей, поскольку считают службу временным трудоустройством, а денежное довольствие – недостаточным. В целях получения премий и продвижения по службе отдельные сотрудники пытаются добыть доказательства и признательные показания от подозреваемых (обвиняемых) любыми методами, в том числе незаконными. В связи с этим представляется, что необходимо повысить социальный статус служащих правоохранительных органов, заинтересовать лиц, поступающих на службу, и действующих сотрудников достойным материальным обеспечением, а также различными льготами, которые ранее предоставлялись сотрудникам, но постепенно к настоящему времени были отменены.
Кроме этого, следует реформировать систему служебных показателей органов охраны правопорядка. Одним из главных критериев эффективности деятельности правоохранительных органов до сих пор остается соотнесение количества раскрытых преступлений с общим числом зарегистрированных общественно опасных деяний (так называемый процент раскрываемости). Повышение этого показателя любыми способами и является одной из причин противоправного воздействия в отношении подозреваемых и обвиняемых.
Это происходит в силу того, что правоохранители отчитываются за раскрытое преступление сразу по окончании предварительного расследования. Одновременно с обвинительным заключением (актом, постановлением) для утверждения прокурору направляются и документы статистического учета, в том числе о раскрытом преступлении. Однако думается, что такие деяния преждевременно считать раскрытыми, поскольку в дальнейшем суды могут принять решения об оправдании подсудимого, прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям и т. п. Поэтому предлагается формировать критерии раскрытия преступлений не по окончании предварительного расследования, а на основе вступивших в силу обвинительных приговоров суда.
Подытоживая изложенное, следует заключить, что подозреваемые и обвиняемые в силу приобретенного процессуального статуса являются уязвимыми объектами преступных посягательств. По этой причине обеспечение их криминологической безопасности обязано стать одной из приоритетных задач деятельности, связанной с предупреждением преступлений против участников уголовного судопроизводства. Криминологическая безопасность подозреваемого и обвиняемого должна быть направлена на предотвращение возникновения и устранение криминальных угроз, препятствующих достижению целей уголовного судопроизводства. Хочется надеяться, что приведенные в настоящем исследовании предложения и рекомендации смогут повысить уровень защищенности личности с процессуальным статусом подозреваемого (обвиняемого) от преступных посягательств и иных угроз криминального характера.
Список литературы К вопросу о криминологической безопасности подозреваемого и обвиняемого
- Бабаев М.М., Плешаков В.А. Теоретические и прикладные проблемы обеспечения криминологической безопасности // Уголовная политика и проблемы безопасности государства: труды Академии управления МВД России. 1998. С. 25–32.
- Босхолов С.С., Сидорова Е.З. Понятие и система обеспечения криминологической безопасности образования // Вестник
- Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 3. С. 66–73. https://doi.org/10.24411/2312-3184-2020-10056.
- Булатов Б.Б., Борков В.Н. Новые потерпевшие и субъект принуждения к даче показаний // Научный вестник Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова. 2023. № 2. С. 165–175.
- Гирько С.И. Дознание в сокращенной форме: перспективы и пути расширения применения // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 3. С. 59–64.
- Колоткина О.А., Ягофарова И.Д. Криминологическая безопасность личности и право личности на криминологическую безопасность как приоритеты стратегического планирования в РФ: теоретико-правовой аспект исследования // Всероссийский криминологический журнал. 2023. Т. 17, № 1. С. 44–53. https://doi.org/10.17150/2500-1442.2023.17(1).44-53.
- Лебедев С.Я. К вопросу формирования концепции обеспечения криминологической безопасности // Закон и право. 2021. № 9. С. 89–90. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2021-9-89-90.
- Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминологическая безопасность региона // Вестник Югорского государств енного университета. 2019. № 3. С. 57–61. https://doi.org/10.17816/byusu20190357-61.
- Раненкова Е.А., Никоноров А.А. Актуальные проблемы фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности по субъективным признакам // Криминологический журнал. 2021. № 3. С. 67–73. https://doi.org/10.24412/2687-0185-2021-3-67-73.
- Савельев А.И. Криминологическая безопасность как вид национальной безопасности // Вестник Омской юридической академии. 2019. Т. 16, № 1. С. 49–54. https://doi.org/10.19073/2306-1340-2019-16-1-49-54.
- Селиверстов В.И. О мотивации применения незаконного насилия к осужденным в исправительных учреждениях России и некоторых мерах его предупреждения // Организационно-правовое обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы: проблемы и пер-спективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти А.И. Зубкова и Дню российской науки / отв. ред. А.Ю. Долинин. Рязань, 2022. С. 398–403.
- Яшин А.В. Предупреждение преступлений против участников уголовного судопроизводства: монография. М., 2020. 320 с.
- Displacement of crime and diffusion of crime control benefits in large-scale geographic areas: A systematic review / C. Telep, D. Weisburd, C. Gill, Z. Vitter, D. Teichman // Journal of Experimental Criminology. 2014. Vol. 10, no. 4. P. 515–548. https://doi.org/10.1007/s11292-014-9208-5.