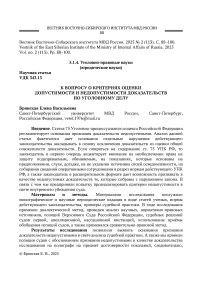К вопросу о критериях оценки допустимости и недопустимости доказательств по уголовному делу
Автор: Брянская Е.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации регламентирует основания признания доказательств недопустимыми. Анализ данной статьи фактически дает основания отдельные нарушения действующего законодательства закладывать в основу исключения доказательств из оценки общей совокупности доказательств. Если опираться на содержание ст. 75 УПК РФ, то законодатель в первую очередь акцентирует внимание на необеспечении права на защиту подозреваемым, обвиняемым, на показаниях, которые основаны на предположении, слухе, догадке, на не указании источника своей осведомленности, на собирании сведений оперативными сотрудниками в разрез нормам действующего УПК РФ, а также законодатель в расширительном формате дает возможность признавать в качестве недопустимых доказательств те, которые собраны с нарушением закона. В связи с чем мы предприняли попытку проанализировать критерии недопустимости в свете внутреннего убеждения суда. Материалы и методы. Материалами исследования послужили монографические и научные периодические издания в виде статей ученых, нормы действующего законодательства, примеры судебной практики. В ходе исследования применен диалектический метод, проведен анализ научных, нормативно-правовых источников, позиций Верховного Суда Российской Федерации, судебных решений судов первой, апелляционной, кассационной инстанций, использованы приёмы обобщения позиций судов, а также применялся сравнительно-правовой метод. Результаты исследования позволили выявить основания признания доказательств недопустимыми в свете анализа судебной практики. А также мы привели позиции судов с обоснованием признания недопустимыми в качестве доказательства исследования на полиграфе на предмет достоверности показаний, следовательно, недопустимости заключения психофизиологической экспертизы. Однако посчитали, что суды без надлежащего и грамотного объяснения признают такие исследования не подлежащими оценке в общей совокупности доказательств. В связи с чем имеет место презумпция недопустимости доказательств, что нивелирует доверие к научности подобного рода проводимым экспертизам. Выводы и заключения. В результате научного исследования мы предложили новую классификацию признания доказательств недопустимыми, которая формируется по принципу критерия недоверия к научной обоснованности специальных знаний. Кроме того, нами подчеркивается необходимость законодательной конкретизации критериев допустимости и недопустимости сведений, которые потенциально могут быть оценены в качестве доказательств по уголовному делу. Нами обосновывается невозможность подмены норм законодательства установками Верховного Суда Российской Федерации.
Доказательства, процесс доказывания, оценка доказательств, признание доказательств недопустимыми
Короткий адрес: https://sciup.org/143184494
IDR: 143184494 | УДК: 343.13
Текст научной статьи К вопросу о критериях оценки допустимости и недопустимости доказательств по уголовному делу
Отсутствие детальной конкретизации в законе правил признания доказательств недопустимыми породило немало споров в научной уголовно-процессуальной литературе. Трактовка ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «Иные нарушения закона»1 послужила первопричиной задуматься: а какие именно нарушения могут иметь место. Все ответы на данный вопрос зависят от внутреннего убеждения правоприменителя. Соответственно, следственная и судебная практика все больше требовала разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Так, в 2017 году Пленум Верховного Суда РФ принял постановление № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)»2. Пункт 13 подчеркивает, что именно необходимо учитывать судам при удовлетворении ходатайства о признании доказательства недопустимым: «При рассмотрении ходатайства стороны о признании доказательств недопустимыми в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ суд должен выяснять, в чем конкретно выразилось нарушение требований уголовнопроцессуального закона. Доказательства признаются недопустимыми, если были допущены существенные нарушения установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.
Судам следует иметь в виду, что установленные в ч. 4 ст. 235 УПК РФ для предварительного слушания правила, согласно которым при рассмотрении ходатайства стороны защиты о признании доказательства недопустимым на том основании, что оно было получено с нарушением требований уголовнопроцессуального закона, бремя опровержения доводов стороны защиты возлагается на государственного обвинителя, а в остальных случаях бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство». Исходя из данных положений, Верховный Суд Российской Федерации дал нам возможность убедиться в том, что институт признания доказательств недопустимыми является одним из начал реализации принципа состязательности сторон. Поскольку суд не по своей инициативе признает недопустимость, несмотря на то, что является главным субъектом оценки доказательств на предмет относимости, допустимости, достаточности, достоверности доказательств, следовательно, имеет место критическое оценивание на предмет соответствия перечисленным свойствам стороной обвинения или стороной защиты. Пленум Верховного Суда Российской Федерации констатировал то, что заинтересованным субъектом, от которого исходит инициатива исключения из общей совокупности доказательств, является сторона защиты, а бремя убеждения судьи в обратном возлагается на сторону обвинения. Однако Верховный Суд Российской Федерации так и не дал определенности, на основании каких точных оснований следует признавать доказательства недопустимыми, указав на существенность нарушения при собирании и закреплении доказательств по делу. Именно тогда в научной литературе начали прослеживаться классификации нарушений, которые могут быть существенными и не существенными. К такой оценочной категории, которая может толковаться расширительно, как существенность, в большей степени стали относить в первую очередь нарушения тех прав, которые относятся к числу конституционных.
В юридической литературе наиболее распространенными выделяют такие нарушения, которые классифицируют и делят на три группы:
«нарушение уголовно-процессуальных правил институтов подследственности и подсудности; получение доказательств лицом, подлежащим отводу; вынесение приговора незаконным составом суда и т. д.;
нарушения уголовно-процессуального закона, связанные с порядком производства по уголовному делу или использованием средств доказывания, не указанных в законе, ибо их перечень носит исчерпывающий (закрытый) характер;
нарушения, касающиеся требований уголовно-процессуального закона, предъявляемых к отдельным видам доказательств, например, нарушение свидетельского иммунитета» [1, с. 176].
«Недопустимыми могут быть признаны только обвинительные доказательства, а оправдательные (шире - «защитные») доказательства не признаются недопустимыми, невзирая на нарушение закона при их получении. В самом широком смысле апология и критика данной концепции лежат в плоскости защиты прав и свобод потерпевших от преступлений либо подозреваемых, обвиняемых, подсудимых в совершении преступления» [2, с. 72].
«Следует классифицировать недопустимые доказательства на следующие виды:
-
1. Нарушение конституционных прав представителей сторон уголовного судопроизводства.
-
2. Составление сопровождающих следственные действия процессуальных документов с нарушением статуса участника уголовного судопроизводства.
-
3. Умышленное и противоправное исправление содержания сопровождающих следственные действия процессуальных документов.
-
4. Пренебрежительное отношение к заявленным стороной защиты ходатайствам» [2, с. 74].
«Среди способов определения допустимости доказательств необходимо выделять четыре:
-
1) способ, связанный с надлежащими субъектами получения доказательств;
-
2) способ, связанный с надлежащими источниками и процессуальной формой доказательств;
-
3) способ о надлежащей форме получения доказательств;
-
4) способ о надлежащем порядке реализации форм получения доказательств.
Таким образом, в случае если подтверждается, что хоть в одном из способов истребования доказательств имеет место нарушение действующих уголовнопроцессуальных норм, такое доказательство не может быть признано допустимым» [2, с 74].
«Существенными могут рассматриваться и другие нарушения, которые влекут сомнения в достоверности доказательства, не устранимые в процессуальном порядке. Примерами таких нарушений может быть производство опознания лица в отсутствие статистов, производство выемки с незаконным составом понятых или в их отсутствие, когда выемка должна производиться с их участием (ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ)» [3, с. 241].
По делам несовершеннолетних во избежание признания доказательств недопустимыми рекомендуется «своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения прав несовершеннолетних, принимать исчерпывающие правовые меры к их восстановлению» [4]. «При этом при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, допускаются системные нарушения закона, которые требуют эффективного, своевременного и комплексного решения. К числу общих нарушений относится неполнота проведенных проверок, неверная квалификация, неправильное установление размера вреда, нарушение правил подследственности и др. К специальным нарушениям можно отнести неверное установление возраста несовершеннолетнего, условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, тяжести причиненного вреда здоровью, неполное изучение личности несовершеннолетнего» [4].
Интерес представляет и так называемый «пробный вариант критериев для признания доказательств недопустимыми», который предлагается в научной литературе: «1) в ходе уголовного судопроизводства нарушены конституционные права участников уголовного процесса и не были вовремя устранены (например, нарушения принципа неприкосновенности жилища путём производства обыска в жилище без судебного решения); 2) отсутствие процессуальных документов, которые влияют на статус участника в уголовном процессе (например, осуществление следственных действий обвинительного характера без объявления обвинения); 3) умышленное искажение содержания процессуальных документов (протоколов, обвинительного заключения, акта) путем дописок, переписывания содержания; 4) игнорирование жалоб, ходатайств участников уголовного судопроизводства. … Несущественными нарушениями, или техническими, можно считать: 1) неграмотно составленный текст процессуального документа, который не влияет на сущность проведённого следственного или судебного действия (например, вместо «обыск» написано «обск»). Прежде чем подписывать документ, следователь, суд должны внимательно прочитать текст документа и исправить ошибки; если будут вовремя исправлены ошибки, недочёты, влекущие существенные нарушения закона» [5, с. 82–83].
Тем не менее такая ситуация не устроила в полной мере представителей адвокатского сообщества. «По мере того как нарастало давление со стороны обвинения, начала меняться и судебная практика. Судей стали ориентировать на то, чтобы не торопились исключать недопустимые доказательства, а давали возможность восполнять их недостатки» [6]. Для адвокатского сообщества «основная проблема заключается в том, что критериев отграничения существенного нарушения от обычного нарушения Пленум ВС РФ не дал, а значит, разрешение этого вопроса отдается на решение судьям, которые в последние годы такие ходатайства почти не удовлетворяли и практически никого не оправдывали» [6]. Таким образом, адвокаты увидели в положениях Верховного Суда Российской Федерации определенного рода ущемления в реализации их состязательных начал. Тогда как в том же постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации отмечается: «Судебное разбирательство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, суд, рассматривая дело в общем порядке судопроизводства, обязан создать необходимые условия для осуществления сторонами предоставленных им прав, в том числе по представлению доказательств, на основании которых суд постановляет приговор или иное итоговое решение по делу, а также для исполнения ими своих процессуальных обязанностей» 3 . Все верно, суд создает необходимые условия, но почему суд должен создавать условия, которые направлены на воспрепятствование достижения истины по уголовному делу. Если следователем допущена при собирании доказательств ошибка технического характера, разве такая первопричина может служить основанием для признания доказательства недопустимым. В той ситуации, когда адвокат знает, что подсудимый виновен, есть ли основания предпринимать действия для «развала» целого состава преступления. Так, когда мы вспоминаем слова П. А. Лупинской «о ложке дегтя в стакане чая», об американском правиле «плодов отравленного дерева», то понимаем: признание одного доказательства недопустимым, может повлечь оправдательный приговор в связи с недоказуемостью состава преступления. Именно поэтому мы предлагаем органам уголовного преследования подкреплять одно доказательство другим, строить доказательную позицию обвинения в свете такой совокупности доказательств, когда в ситуации утраты одним доказательством юридической силы, рядом по делу будет иметь место не менее значимая совокупность доказательств, подтверждающая обоснованную виновность лица в совершении преступления.
Однако растяжимое понятие существенности и несущественности нарушений норм закона, до сих пор не оставляет в чувстве однозначности и точного понимания наших представителей стороны обвинения, стороны защиты. Полагаем, что данный вопрос отдается на усмотрение суда, который, должен обосновывать свою позицию о признании доказательства недопустимым или же обязан объяснить отказ в удовлетворении ходатайства стороной защиты. Анализируя судебную практику, Верховный Суд Российской Федерации, в своих обзорах стал приводить примеры о признании доказательств недопустимыми с конкретным обоснованием таких причин. Представители адвокатуры, соответственно, взялись за аналитику таких примеров из судебной практики, что в определенной степени начало служить подтверждением прецедентности института недопустимых доказательств [7].
В этой связи государственные обвинители вынуждены предпринимать меры для того, чтобы любым законным средством сохранить силу доказательства, которое пытаются признать ущербным и исключить из общей совокупности оценки доказательств. В судебном следствии государственные обвинители заявляют ходатайства о производстве ряда процессуальных действий в целях восполнить утраченное в силе доказательство.
Для нас не в полной мере однозначен вопрос о недопустимости оценки доказательств, полученных посредством полиграфа. Судебная практика не один раз в своих определениях констатировала недопустимость оценки в качестве допустимого доказательства результатов исследования посредством полиграфа. Вопрос неоднозначный, но данное исследование на полиграфе имеет вероятный, всего лишь ориентирующий характер. Несмотря на то, что психофизиологическая экспертиза относится к так называемым «научным источникам».
Однако судебная практика как в прошлом, так и в настоящее время не столь понятна, как хотелось бы. О. И. Андреева отмечала: «В кассационном определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 № 81-О11-49 указано, что «имеющиеся в деле заключения “специалиста с правом работы с полиграфными устройствами при опросе граждан” К., которые судом расценены как “заключения эксперта”, не могут быть признаны таковыми, поскольку не отвечают требованиям, предъявляемым законом к заключению эксперта». В то же время кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 8 февраля 2011 г. № 72-011-3 психофизиологическое исследование (в определении – экспертиза) с использованием полиграфа фактически было признано допустимым доказательством по делу» [8, с. 158].
Тем не менее, можно привести в качестве примера определения 2КСОЮ от 16.02.2021 г. № 77-375/2021, 5КСОЮ от 02.03.2020 г. № 77-132/2020, в которых результат психофизиологических исследований с применением «детектора лжи», не признается имеющим процессуальной силы доказательства. Тогда как психофизиологическая экспертиза проводится компетентным экспертом, который объективно может оценить все возможности вероятности вывода о признаках лжи или достоверности в силу физиологических особенностей подэкспертного. Однако, психофизиологическая экспертиза на основе полиграфного исследования не нашла своего признания в процессе доказывания по уголовному делу.
Для ученых очевидна проблематика и они пишут о том, что имеет место «1. Явная недостаточная осведомленность лиц, обладающих процессуальными полномочиями назначать судебные экспертизы, в вопросах, решаемых психофизиологической экспертизой, и относительно судебно-экспертных организациях, ее проводящих …; очевидна 2. Проблема проверки и апробации конкретных экспертных методик – результатов деятельности экспертов, разрабатывающих новую или адаптирующих уже имеющуюся типовую экспертную методику. 3. Недоступность ведомственных экспертных методик психофизиологических экспертиз с применением полиграфа для широкого ознакомления, что является препятствием для объективной оценки деятельности судебных экспертов разных ведомств» [9, с. 176–177].
В этой связи мы решили проанализировать судебные решения, в которых исследования посредством полиграфа признаются допустимым или недопустимым доказательством. Например, анализируя решения судов, мы видим следующее: «Он сам из салона своего автомобиля выстрелы из обреза ружья не совершал. Его показания об этом были предметом исследования в ходе предварительного расследования, в том числе психофизиологического обследования с использованием полиграфа» 4 . «Суд также принял сторону обвинения, отказав в ходатайствах о проведении психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, и лингвистической экспертизы… В апелляционных жалобах адвокат ФИО12 в интересах осуждённого ФИО4, оспаривая законность и обоснованность приговора, указывает, что предъявленное ФИО4 обвинение не нашло своего подтверждения, поскольку исследованные доказательства не дают основания для вывода о виновности ФИО4. Считает, что при рассмотрении дела в суде был нарушен принцип состязательности сторон, поскольку судом было необоснованно отказано в удовлетворении ходатайств осуждённых о производстве психофизиологической, лингвистической, судебномедицинской. Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции не находит оснований для их удовлетворения исходя из следующего. Фактические обстоятельства по делу судом установлены правильно. Отказ в проведении экспертиз судом апелляционной инстанции был обоснован следующим образом. В соответствии с принципом непосредственности и устности судебного разбирательства, предусмотренным ст. 240 УПК РФ, суд исследовал показания потерпевшего и свидетелей путем их непосредственного заслушивания в судебном заседании. В связи с чем обоснованно отказал стороне защиты в проведении лингвистической экспертизы показаний, данных свидетелями на предварительном следствии. Также обоснованно было отказано судом в проведении судебномедицинской экспертизы для установления тяжести вреда здоровью ФИО4 ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст. 196 УПК РФ. Установление этих обстоятельств не относится к обвинению, являвшемуся предметом рассмотрения суда. Отказ суда в проведении психофизиологической экспертизы с применением полиграфа также является правильным, поскольку законом не предусмотрено принятие результатов такой экспертизы в качестве доказательства по уголовному делу» 5. По нашему мнению, довод отказа в удовлетворении ходатайства о проведении психофизиологической экспертизы понятен не в полной мере, поскольку действующий закон не регламентирует возможность проведения каждой отраслевой криминалистической экспертизы, УПК РФ не уточняет, какие именно отраслевые криминалистические экспертизы оцениваются в качестве доказательств, а какие нет. К тому же позиция Верховного Суда Российской Федерации является толкованием судебной практики, но не законом. В чем конкретно выражается недопустимость психофизиологической экспертизы в качестве доказательства, видится в вышеупомянутом апелляционном определении не вполне обоснованным. Корректной может показаться следующая формулировка в обоснование правомерности отказа в полиграфическом исследовании: «Вопреки доводам жалобы оснований для назначения психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа не имелось, так как уголовно-процессуальный закон не предусматривает законодательной возможности применения полиграфа в уголовном процессе»6. Однако суд не обосновывает нормами УПК РФ свой вывод. Возникает резонный вопрос: тогда какими нормами УПК РФ предусмотрена возможность проведения судебно-медицинской экспертизы или психолого-сексолого-психиатрической экспертизы. Ведь УПК РФ не детализирует специфику той или иной экспертизы и возможность их применения, все они относятся к разряду «научных доказательств», в которых имеет место в качестве основы специальное знание. Если конкретные заключения экспертов могут отвечать требованиям, которые предъявляются к доказательствам, в частности, относимости, допустимости, достаточности, достоверности, а какие-то нет, тогда следует обосновать такую причину.
В целях соблюдения корректности подобного рода судебных отказов, можно было бы дополнить позицию суда цитатой Верховного Суда Российской Федерации. Например, отказ в оценке исследования посредством полиграфа в качестве доказательства судом апелляционной инстанции обосновывается позицией, которая была представлена Верховным Судом Российской Федерации следующим образом: «согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Сведения, полученные в ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа, могут быть использованы на стадии предварительного расследования в целях проверки следственных версий »7.
В то же время можно привести примеры из судебной практики, когда заинтересованные участники процесса рассматривают отказ в проверке показаний на полиграфе в качестве оснований для обжалования приговора суда первой инстанции и полагают: «постановлениями ОМ №228 2018 года ему незаконно отказывают в проверке на полиграфе Б, что судом первой инстанции должно расцениваться, как действия, затрудняющие его доступ к правосудию »8.
Подобного рода отказы в оценке в качестве доказательства возникают и при использовании альфакторной экспертизы, поскольку для наших судов она не считается научно обоснованной, содержит немало вопросов, свидетельствующих о вероятности на предмет ее научной достоверности.
В этой связи нам видится возможность предложить новую классификацию признания доказательств недопустимыми. В основе такой классификации выступает степень доверия в достоверности получаемой информации. Следовательно, если у стороны нет оснований доверять достоверности специальных познаний эксперта, значит, есть основания для признания недопустимыми. Только возникает резонный вопрос: а по ходатайству ли сторон суды признают недопустимыми доказательствами психофизиологические экспертизы? В свете анализа судебной практики, мы такой факт абсолютизировано не наблюдаем, для нас очевидна презумпция недопустимости, продиктованная позицией Верховного Суда Российской Федерации. Следовательно, для нас очевидны факты, которые формируются в свете внутреннего убеждения суда. Значит, необходима однозначная законодательная позиция, обоснованное решение судов о причинах отказа в допустимости определенного источника, для которого нет оснований признания в качестве доказательства, поскольку позиции Верховного Суда Российской Федерации не имеют юридическую силу закона, соответственно, не могут подменять нормы действующего законодательства.