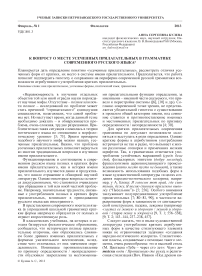К вопросу о месте усеченных прилагательных в грамматике современного русского языка
Автор: Кулева Анна Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (130), 2013 года.
Бесплатный доступ
Планируется дать определение понятию «усеченные прилагательные», рассмотреть отличия усеченных форм от кратких, их место в системе имени прилагательного. Предполагается, что работа позволит подтвердить гипотезу о сохранении на периферии современной русской грамматики возможности атрибутивного употребления кратких прилагательных.
Имя прилагательное, усеченные формы, поэтический язык, грамматика
Короткий адрес: https://sciup.org/14750353
IDR: 14750353 | УДК: 801.3
Текст научной статьи К вопросу о месте усеченных прилагательных в грамматике современного русского языка
«Неравномерность в изучении отдельных объектов той или иной отрасли науки порождает научные мифы. Отсутствие – полное или почти полное – исследований по проблеме может стать причиной “отрицательного” единодушия специалистов, полагающих, что самой проблемы нет. Но наступает время, когда данный тезис необходимо доказать – и обнаруживается проблема, очень сложная, трудно разрешимая. Приблизительно такая ситуация сложилась в теории поэтического языка по отношению к морфологическому уровню» [3; 75]. Ярким примером подобного научного мифа можно назвать усеченные прилагательные. Важно, что проблема усеченных прилагательных позволяет вернуться ко многим традиционным вопросам в изучении имени прилагательного.
Функционирование и соотношение в современном русском языке полных и кратких форм имени прилагательного, как и история имени прилагательного, изучаются давно и продуктивно, что нашло отражение в обширной научной литературе. Однако некоторые вопросы остаются дискуссионными, что становится очевидным при обращении к той или иной частной проблеме. Например, значительные трудности, связанные с употреблением полных и кратких форм прилагательных, возникают в преподавании русского языка как иностранного.
В представлении современного носителя языка (в упрощенной школьной грамматике) краткие формы напрямую образуются от полных и играют второстепенную роль.
В классических учебниках, на которых и сегодня базируется филологическое образование, сообщается, что исторически полные прилагательные вторичны, они образовались слиянием более древних именных прилагательных с формами указательного местоимения, вследствие чего отличались от них значением определенности. Возникшее противопоставление по признаку определенности / неопределенности обусловило закрепление за местоименны- ми прилагательными функции определения, за именными – именной части сказуемого, что привело к перестройке системы ([6], [10] и др.). Согласно современной точке зрения, не представляется убедительной гипотеза о существовании в прошлом общей категории имени, под сомнение ставится и противопоставление именных и местоименных прилагательных по признаку определенности / неопределенности [4; 30].
Для кратких прилагательных современная грамматика не допускает возможности склоняться и выступать в роли определения. Однако краткие формы в атрибутивном употреблении встречаются не так и редко, что вызывает к жизни различные оговорки и примечания мелким шрифтом. Так, в грамматиках отмечается употребление устойчивых выражений ( средь бела дня ), фольклорных эпитетов ( добру молодцу ), фразеологизмов церковнославянского происхождения ( свято место пусто не бывает ), а также возможность использования подобных форм в языке художественной литературы «в целях создания народно-поэтического колорита; например, у А. Блока: Я голосом тот край, где синь туман, бужу, Я песню длинную прилежно вывожу (“Песельник”)» [5; 256]. Особого внимания заслуживает полупредикативное употребление прилагательных [7; 80–81, 90], в частности варьирование форм в зависимости от синтаксической конструкции, падежа, лексемы (например: « застал ее живую и здоровую / живой и здоровой / старое живу и здорову ») [9, Т. 1; 556–558], [9, Т. 2; 143–144, 237–238, 457].
Следует сказать, что в языке художественной литературы употребление кратких атрибутивных форм в качестве стилизующего элемента никак не ограничивается задачами «создания народно-поэтического колорита». Стилистические пласты, создаваемые с помощью такого элемента, очень разнообразны: это и высокий стиль (М. Цветаева «Тебе – через сто лет»: Через ле-тейски воды / Протягиваю две руки), и религиозная стилизация (Вяч. Иванов «Под древом ки- парисным»: «Не прети же Ты, Мати, мне младу / Алые цветики собирати, / Красные веночки соплетати, / Древо кипарисно украшати!»), и просторечие (М. Кузмин «У печурки самовары...»: Круглы сутки все одна я). Прилагательные служат для архаизации языка произведения (М. Волошин «Протопоп Аввакум»: юнош светел парус правит, жива бы проглотил, догматы церковны), в том числе и в ироническом ключе (например, у П. Вяземского: <Второй акт>: дождь, гроза, растрепанна печаль / По сцене бегает и водит за собою; в поэзии В. Курочкина: Изданну книжицу мной подношу вам, друже; Почто текут народа шумны волны?). Более того, подобное употребление прилагательных характерно не только для языка поэзии (А. и Б. Стругацкие «Стажеры»: Стажеру надлежит быть «спокойну, выдержану и всегда готову»). Упомянем и характерные для некоторых русских диалектов и ряда славянских языков стяженные формы, внешне напоминающие древние именные прилагательные (нова изба, р1дна хата и пр.), которые также могут встречаться в художественной речи.
Особый интерес представляет такой элемент языка русской поэзии, как усеченные прилагательные, которые традиционно рассматриваются как искусственные книжные формы, по структуре близкие именным формам, но по своему грамматическому значению и синтаксической функции относящиеся к парадигме полных прилагательных (М. Ломоносов: Несчетны солнца там горят). Существующая научная литература предписывает строго разграничивать усеченные и краткие формы, например: «От кратких прилагательных, употребляющихся только в качестве сказуемого, следует строго отграничивать встречающиеся в стихотворной речи XVIII–XIX вв. прилагательные усеченные, которые в предложении выступают как определения. Эти прилагательные образовывались от соответствующих форм полных путем отсечения от окончания конечного гласного и предшествующего ему звука -j-. Они производились от полных прилагательных не только в форме именительного падежа, но и в форме винительного падежа, причем как от качественных, так и от относительных. От кратких форм эти прилагательные отличались также и тем, что абсолютно во всех случаях сохраняли ударение соответствующих им полных. Употреблялись эти прилагательные в поэтическом языке чисто в версификационных целях» [2; 269– 270] (разрядка моя. - А. К.). Важно, что термин «усеченные прилагательные» первоначально использовался в церковнославянских и русских грамматиках по отношению к кратким (именным) формам, то есть предполагалось, что краткие формы образуются от полных (так считает и современный носитель языка). В таком случае не удивительно, что теоретики XVIII века – Канте- мир, Тредиаковский – отождествляли краткие и усеченные формы (считая атрибутивное употребление усеченных форм принадлежностью «словенского» языка) [1; 248–251]. Можно предположить, что искусственный характер поэтических «усеченных прилагательных» стал осознаваться позже, когда подобные формы перестали употребляться в речи.
Современному исследователю новые перспективы предоставляет развитие корпусной лингвистики: возможность анализировать большие массивы текста, составлять электронные словари (конкордансы, частотные словари, словари языка одного автора, нескольких авторов, литературного направления или периода), что не только облегчает труд исследователя, дает новые инструменты, но и позволяет получить принципиально новые результаты.
Привлеченный языковой материал позволяет несколько иначе взглянуть на проблему возможности атрибутивного употребления прилагательных в современном русском языке.
Прежде всего в поэтическом языке усеченные прилагательные употреблялись еще в виршевой поэзии XVII века и продолжают встречаться до настоящего времени (более чем 30 тысяч рассмотренных стихотворных текстов 450 авторов содержат 15 тысяч таких форм).
Черты, доказывающие их искусственность (ударение на основе, образование отсечением части окончания, причем нередко от не имеющих краткой формы относительных прилагательных, действительных причастий, порядковых числительных и др.), присущи не только стихотворной речи XVIII–XIX веков. Например, в виршах XVII века встречаем такие примеры: смыслу ко-ролевску дивитися; озарение лунно; целомудр нрав; от нарочита дидоскала; из мутны тины чиста вода не истекает и др. Не вызывают особого отношения к себе частотные в поэтическом языке индивидуально-авторские употребления, если прилагательное сохраняет предписанную грамматикой предикативную (или полупреди-кативную) роль. Так, у Л. Мартынова находим: Вот они, эти струны, / Будто медны и будто чу-гунны; Житейский путь мой каменист и торен; И, как бы ни межзвездны наши судьбы; Ветер северный южен; Он [плащ] / Был мокр, блестящ; Лишь ты, моя счастливая звезда, / Одна-единственна, плывешь, блистая; ср. у него же в атрибутивном употреблении: Мол, к нашим дырявым овчинам / Пришьем драгоценны заплатки ; С гор, как из каменной печи, дохнули ветры горячи; Обыкновенна жесть тут надобна, как вижу; К учености питал он зависть нехорошу; Магическа жезла в руках нет никакого. Краткие прилагательные в атрибутивном употреблении встречаются не только в поэзии. Они характерны для языка XVIII века (А. Радищев «Бова»: Царевна уснула, а проснувшись увидела Полкана мертва и подле него льва издыхающа; Д. Фонвизин «Недоросль»: Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменны ворота). Используются они и в прозе таких писателей, как П. Мельников-Печерский, Н. Лесков, М. Горький, Б. Шергин, С. Писахов и др. Так, только в первой части романа Мельникова-Печерского «В лесах» мы находим 294 таких примера, причем, если бы они встретились в поэзии, многие из них по всем признакам были бы отнесены к усеченным прилагательным: в верховы города, на золоты прииски , в казенны подряды, первы бумажки, посторонни люди, родительски денежки, древян гроб, хозяйско добро, казенна земля, деревянну посуду, про здешню старину.
Собранный материал позволяет утверждать, что усеченные прилагательные (краткие атрибутивные формы), встречающиеся в языке не только поэзии, но и прозы XVII–XXI веков, заслуживают внимания современных исследователей и отражения в грамматике современного языка. Такие формы имеют опору в истории языка (именные прилагательные в древнерусском и церковнославянском, а также диалектные стя-женные формы и формы прилагательных других славянских языков). Они понятны носителю языка и легко создаются по существующему образцу, например, в современной поэзии: в недоступны края; сигаретны автоматы; искрометны овны; муж имущ; мраморна дева; под любовно небо Евросоюза; время летне время оно; на простыню казенну; в имманентнурощу; ненасытну печаль; в тишину серо-жемчужну; у границы бивалютна коридора и др. Вполне логичным кажется утверждение, что усеченные прилагательные, как и современные краткие формы, образуются «прибавлением к основе родовых и числовых флексий» [5; 255], в том числе и в косвенных падежах. Как и другие архаичные формы, в художественной речи они несут значительную стилистическую нагрузку.
Допущение в грамматике возможности атрибутивного употребления кратких форм как маргинального, периферийного, но живого явления современного русского языка [8; 233] способствовало бы более глубокому и системному анализу различий между полными и краткими прилагательными. Интересно, что сейчас изучение таких форм затруднено именно отсутствием их кодификации. Так, в прекрасно проработанном инструментарии Национального корпуса русского языка ( http://www.ruscorpora.ru ) в соответствии с современной грамматикой – усеченных (кратких атрибутивных) форм нет. Отдельные примеры можно получить при запросах «краткая форма + родительный / дательный / предложный падеж» или «прилагательное + аномальная / искаженная / несловарная форма» (что не дает полной выборки) или по отдельным лексемам: например, «поиск точных форм: полну » (что не позволяет обнаружить редкие, индивидуально-авторские формы). Еще меньше возможностей дает поиск в Интернете, хотя при чтении блогов и форумов (то есть не в художественной речи, а в непосредственном общении современных носителей языка) можно найти любопытные примеры (это у нас любовны игры такие ; проявила о нем материнску заботу ; он вам тоже полну авоську наваляет ; эй, драги други! ), происхождение и функционирование которых было бы интересно рассмотреть.
* Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика».
USE OF CLIPPED ADJECTIVES IN MODERN RUSSIAN GRAMMAR
Список литературы К вопросу о месте усеченных прилагательных в грамматике современного русского языка
- Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М.: КомКнига, 2006. 328 с.
- Галкина-Федорук Е. М., Горшкова К. В., Шанский Н. М. Современный русский язык: Лексикология, фонетика, морфология. М.: URSS, 2009. 408 с.
- Гин Я. И. Проблемы поэтики грамматических категорий: Избр. работы. СПб.: Академический проект, 1996. 224 с.
- Историческая грамматика древнерусского языка/В. Б. Крысько (ред.). Т. 3. Прилагательные. М.: Азбуковник, 2006. 496 с.
- Краткая русская грамматика/Под. ред. Н. Ю. Шведовой, В. В. Лопатина. М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2002. 726 с.
- Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Морфология. М.: URSS, 2005. 312 с.
- Патроева Н. В. Поэтический синтаксис: Категория осложнения. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 334 с.
- Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. М.: РГГУ, 2011. 672 с.
- Русская грамматика АН СССР: В 2 т. М.: Наука, 1980.
- Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М.: Изд-во МГУ, 1990. 298 с.