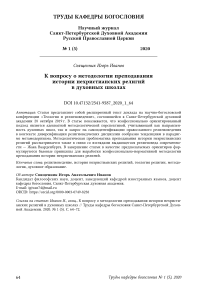К вопросу о методологии преподавания истории нехристианских религий в духовных школах
Автор: Иванов Игорь Анатольевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Статья в выпуске: 1 (5), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой расширенный текст доклада на научно-богословской конференции «Теология и религиоведение», состоявшейся в Санкт-Петербургской духовной академии 28 октября 2019 г. В статье показывается, что конфессионально ориентированный подход является адекватной методологической перспективой, учитывающей как направленность духовных школ, так и запрос на самоидентификацию православного религиоведения в контексте диверсификации религиоведческих дисциплин сообразно тенденциям в парадигме метамодернизма. Методологическая проблематика преподавания истории нехристианских религий рассматривается также в связи со взглядами выдающегося религиоведа современности - Жака Ваарденбурга. В завершение статьи в качестве предполагаемых ориентиров формулируются базовые принципы для выработки конфессионально-нормативной методологии преподавания истории нехристианских религий.
Религиоведение, история нехристианских религий, теология религии, методология, духовное образование
Короткий адрес: https://sciup.org/140294176
IDR: 140294176 | DOI: 10.47132/2541-9587_2020_1_64
Текст научной статьи К вопросу о методологии преподавания истории нехристианских религий в духовных школах
About the author: Priest Igor Anatolyevich Ivanov
Priest Igor Anatolyevich Ivanov — Candidate of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages, Associate Professor of the Department of ^eology, St. Petersburg ^eological Academy.
Article link: Ivanov I., priest. On the Issue of the Methodology of Teaching the History of Non-Christian Religions in ^eological Schools. Proceedings of the Department of ^eology of the Saint Petersburg ^eological Academy, 2020, no. 1 (5), pp. 64–72.
Методология преподавания любого предмета зависит от целей и задач, поставленных для освоения определенных знаний и приобретения соответствующих навыков для конкретной деятельности. В духовных школах большинство изучаемых предметов так или иначе соотносятся с пастырской деятельностью и предполагают как глубокое и сознательное воцерковление, так и формирование библейского историко-философского мировоззрения и церковного догматического сознания.
В таком контексте изучение нехристианских религий методологически встраивается в библейскую историософию и христианскую догматическую систему. Понятно, что в данном случае речь идет именно о конфессиональном религиоведении1.
Согласно документу под названием «Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования специалиста в области православного богословия (семинария)» в курсе «История нехристианских религий» (далее — ИНР) изучаются следующие аспекты: понятие о религии и признаки религии; богооткровенная религия и язычество; религия первозданных людей, происхождение язычества и его виды; религии Индии, Китая, Тибета и Японии; иудаизм; ислам.
При этом стандартно выбирается дескриптивный диахронический метод изложения материала с целью ознакомить студентов с основными вехами религиозной истории человечества и моделями религиозного сознания, а также научить студентов различать разные религиозные парадигмы, видеть их воздействие на культуру, влияние на историю народов и государств.
Для достижения этих целей перед учащимися могут ставиться следующие задачи: изучить основные священные тексты (точнее — сущностные фрагменты) разных религиозных традиций; уяснить ключевые термины из сакрального языка той или иной религии; ознакомиться со спецификой и назначением обрядов и ритуалов конкретной религии; подвергнуть анализу этические нормы, представления о благочестии; выяснить особенности вероучения конкретной религии в богословском и философском аспектах; выявить, по возможности, процессы взаимовлияния нехристианских религий на разных этапах их развития; ознакомиться с современным состоянием рассматриваемых религий.
При этом важно учитывать, что зачастую при изучении чужих религий изнутри своей религиозности происходит вольное или невольное сопоставление иерархии базовых религиозных установок, поскольку каждая религия — это конкретная нормативная система, сложившаяся в опыте общения с духовным миром. Фактически религия — это духовная связь с инобытием, духообщение. Как отмечает Жак Ваарденбург (1930–2015), «различные определения религии предполагают веру в существование высшей или “сверхъестественной” реальности. Согласно таким определениям, отличительным признаком религии является притязание на посредничество в познании этой реальности, а точнее — на коммуникацию с ней»2.
В таком контексте атеистическое (а ныне — секулярное, по сути своей — внецер-ковное) религиоведение, конечно, представляет собой нонсенс, будучи подобным (в силу отсутствия опыта богообщения) рассуждениям слепого о живописи или глухого о музыке. Впрочем, бывает и так, что с «критикой» религии выступают ренегаты или сознательные богоборцы.
Говоря о феноменологической традиции эмпатии к изучаемому религиозному опыту, Ж. Ваарденбург сугубо подчеркивает, что «в изучении такого опыта принципиально важно разграничение между спецификой и сферой изучаемой культуры и религии, с одной стороны, и опытом и духовными запросами западного (главным образом) исследователя, пребывающего в собственном культурном контексте. Это различие ни в коем случае не стоит нивелировать. Даже если исследователь в целях эксперимента… оказывается способен к глубоким эмпатическим или личностным переживаниям он не должен отождествлять свой собственный опыт с религиозным опытом других людей»3.
Вполне очевидно, что православный христианин, сам пребывая в богооб-щении и в лоне Церкви, не будет пытаться уяснить чужой духовный опыт изнутри — в синагоге, мечети, дацане, хайдэне и т. п. Поэтому при конфессиональной внятности понимание иной религиозности может проходить методологически через дескриптивную фактологию как систему (или модель) религиозных обрядов, норм, символов и смыслов, а также их богословско-философский анализ, наряду с выявлением универсальных аспектов, а также монотеистического ядра разнообразной исторической религиозной мысли.
Об этом монотеистическом ядре в свое время писал выдающийся католический религиовед пастор Вильгельм Шмидт (1868–1954): «Если мы попытаемся осуществить целостный взгляд на внушительное количество фактов, повествующих о Верховном Существе древнейших культур, то станет ясным, каким образом совокупность этих фактов внутренне удовлетворяет различным потребностям человека. Рационально-каузальные потребности человека, то есть такие, согласно которым человек простирает свой мысленный взор к первоначалам этого мира, к началу всех вещей, находят свое удовлетворение в образе Верховного Существа как творца мира и человека. Социальные потребности человека находят свое обоснование посредством веры в Верховное Существо, которое создало семью. Поэтому муж и жена, родители и дети, братья и сестры, а также все родственники связаны взаимными обязательствами, которые своим происхождением обязаны Творцу. Удовлетворение этических потребностей также завязано на этом Существе, поскольку оно является законодателем, тем, кто следит за всем творением, является тем, кто воздает благом или наказывает. Само это Существо не имеет никаких нравственных несовершенств. Чувственная потребность в доверии, любви, в благодарности находит свое осуществление в этом Верховном Существе, ведь оно является Отцом, и от него исходит лишь благо и только благо. Потребность в защите и самопожертвовании удовлетворяется в этом Верховном Существе, ибо оно имеет неограниченное могу щество и величие перед лицом в сего существующего»4.
Что касается ситуации с религиозной нормативностью, то опять-таки Ж. Ваарденбург характеризует ее таким образом: «Во всех религиях существуют абсолютные и безусловные нормы, отличающиеся своей категоричностью и противоположностью обычным моральным предписаниям, правилам и законам. Прежде всего, они касаются космоса5, общества и поведения индиви-да»6. <…> «Необходимо целостное исследование представлений о реальности, которым присущи эти нормативные понятия»7.
И здесь мы обнаруживаем такие специфические методологические установки при изучении ИНР: 1) религиозный человек может лучше понять чужую религиозность, нежели человек нерелигиозный; 2) свой религиозный опыт и своя религиозная традиция определенным образом сказываются на понимании чужой религиозности (например, в использовании терминологии на родном языке) и это приходится учитывать; 3) отключение «настроек» своей религиозности при изучении или преподавании ИНР вряд ли может быть адекватным решением (это равносильно отказу от собственного мировоззрения); 4) для верующего религиоведа (в данном случае — православного) нормативной принципиально является система своей религии при внятном понимании онтологического статуса религиозной веры других людей. В такой ситуации приходится говорить о подключении к ИНР определенных аспектов теологии религии как таковой. По сути дела, изучение различных парадигм «истории религий» в контексте теологии религии той или иной религиозной системы8 — это сюжет для отдельного исследования9.
Отметим, что нормативного подхода придерживалось традиционное ка-толическое10 и протестантское11 религиоведение. Об аналогичном формате православного религиоведения можно говорить в контексте равно дореволю-ционных12 и современных13 трудов.
Теперь кратко обозначим несколько проблемных точек в методологии преподавания ИНР в духовных школах:
Первая проблема преподавания ИНР заключается в том, каким исследованиям и пособиям отдавать предпочтение: светским или конфессиональным? Это связано с тем, что нормативный14 и ненормативный15 подходы имеют свои ограничители.
Так, с одной стороны, если о своей религии пишет ученый религиовед, то его материал будет так или иначе представлен под нормативным углом зрения. А в силу передачи им непосредственного и традиционно усвоенного религиозного (нормативного) опыта этот материал будет иметь больше достоверности по сравнению с изложением секулярного ученого. Иными словами, изучать, например, историю иудаизма или ислама желательно из «первых уст», не забывая при этом давать свою экспертную конфессиональную интерпретацию тех или иных религиозных феноменов.
С другой стороны, если о разных религиях как равноценных по (не) нормативности пишет светский специалист, то степень внятности его суждений может быть обусловлена его научной компетенцией, исследовательской честностью, а также разделяемыми на данный момент философскими убеждениями16. Такую позицию также можно квалифицировать сообразно типологии мировоззрений и дать ей свою экспертную конфессиональную оценку17.
При этом, в методологическом плане важно говорить и о разных моделях ИНР: эволюционной18, деградационной19, синтезированной20, выясняя при этом степень их близости к библейской историософии и рассматривая варианты реакций на проблему (не)сопряжения собственной религиозности и актуальных научных данных: размежевание, согласование, критика, аналитика, экспертная оценка разных моделей истории религий. При согласовании, например, библейского повествования о начале человеческой истории и научных данных о религиозности людей палеолита и неолита желательно избегать 1) замалчивания существования конкретных религиозных артефактов; 2) крайностей апологетики как библейского буквализма, так и научной периодизации. Средним путем ухода от «разрыва шаблона» в спорах о точности той или иной хронологии может стать экспликация исторически зафиксированных религиозных феноменов, исходя из парадигмальной библейской модели истории религиозности: сотворение человека — грехопадение — допотопный период — послепотопный период — вавилонское столпотворение — рассеяние по миру — история сохранения ветхозаветного монотеизма в окружении язычества — Боговоплощение — обращение народов ко Христу / неприятие народами Христа.
Вторая проблема как продолжение первой связана непосредственно с личностью преподавателя. Кто должен / может преподавать ИНР: 1) специально приглашенный носитель определенной религиозности («гуру»); 2) носитель научной информации о религиях / разработчик / интерпретатор той или иной религиоведческой концепции («ученый-специалист»), даже если он атеист или афидеист; 3) конфессиональный эксперт по религиям («православный религиовед»)21? В рамках лекционных занятий преимущество, скорее всего, следует отдавать третьему варианту. А для научных диспутов и круглых столов с некоторыми оговорками допустимы первый и второй варианты.
Третья проблема связана с необходимостью осмысления критериев для отбора исторического материала с целью иллюстрации моделей религиозного сознания согласно той или иной религиозной парадигмы: что именно нужно преподавать? Чью (какую) религиозную историю? Кроме того, здесь же могут возникнуть определенный контроверзы при сочетании научной объективности с вопросами духовной безопасности и спецификой возможной миссионерской нацеленности (полемика и т. п.).
Еще на заре становления феноменологии религии было сформулировано, что история религии выясняет как историю отношений человека и Бога, так и историю подмены или искажения этих отношений. Поэтому ИНР предполагает серьезную богословскую дивергенцию религиозных феноменов22 с учетом их диверсификации по множественным критериям, например, таким:
-
1) ИНР как история изменения / сохранения действенности и действительности определенного религиозного опыта:
-
а) обрядов, ритуалов, традиций;
-
б) вероучения, сакральных текстов / истории интерпретаций;
-
в) социального устроения общины верующих;
-
г) взаимодействия с другими социальными институтами и обществами.
-
2) ИНР как хронологически адекватное размещение исторических фактов религиозного характера на единой шкале времени:
-
а) история жизни основателя религии и его последователей;
-
б) история базовой общины и история сект / инакомыслия;
-
в) история миссионерства той или иной религии / развития / упадка;
-
3) ИНР в контексте истории существования религиозных идеологий / моделей согласно разным картинам мира (эволюция / деградация / сосуществование).
Все эти аспекты могут учитываться при выборе того или иного подхода при преподавании ИНР в рамках определенной теологической перспективы курса.
В этой связи можно привести слова Ж. Ваарденбурга о том, что «Г. ван дер Леу предлагает поместить изучение религии в рамки теологических дисциплин как целого. Он провозглашает христианскую веру нормативом своего изучения религии. <…> Поскольку необходима оценка, историк не может работать без философской и теологической рефлексии; должно быть соединение исторической и систематической работы. Для того чтобы производить отбор и классификацию феноменов, феноменология должна получить от теологии норму „веры христианской общины“»23.
В заключение статьи обозначим некоторые принципы касательно перспектив выработки конфессионально-нормативной методологии преподавания ИНР в духовных школах: 1) соотнесенность с догматом о Промысле Божием в истории человечества и православной сотериологией, а также со святоотеческим взглядом на религиозные различия; 2) соотнесенность с библейским мировоззрением и библейской хронологией; 3) соотнесенность с христианской теологией религии наряду с осмыслением актуальных религиоведческих знаний, в том числе и секулярных. С учетом этих принципов можно не только попытаться выработать целостное христоцентричное религиоведческое мышление, но и трезвомысленно подходить как к изучению доступного эмпирического религиозного опыта, так и к анализу теоретической его интерпретации в контексте разных философско-богословских установок и парадигм.