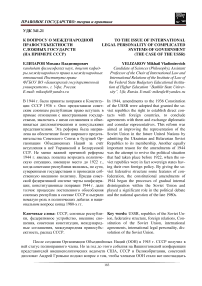К вопросу о международной правосубъектности сложных государств (на примере СССР)
Автор: Елизаров Михаил Владимирович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Международное и европейское право
Статья в выпуске: 4 (58), 2019 года.
Бесплатный доступ
В 1944 г. были приняты поправки к Конституции СССР 1936 г. Они предоставили советским союзным республикам право вступать в прямые отношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями. Эта реформа была направлена на обеспечение более широкого представительства Советского Союза в будущей Организации Объединенных Наций за счёт вступления в неё Украинской и Белорусской ССР. Не менее важной причиной реформы 1944 г. явилась попытка возродить политическую ситуацию, имевшую место до 1922 г., когда советские республики являлись, по сути, суверенными государствами и проводили собственную внешнюю политику. Придав советской федеративной системе черты конфедерации, конституционные поправки 1944 г. дали толчок процессам постепенного обособления союзных республик в составе СССР и сыграли немалую роль в политических дебатах и национальном вопросе конца 1980-х гг.
Ссср, союзные республики, федеративное устройство, внешние сношения, советская конституция, международные соглашения, международная правосубъектность, распад ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/142234031
IDR: 142234031 | УДК: 341.21
Текст научной статьи К вопросу о международной правосубъектности сложных государств (на примере СССР)
После создания Организации Объединённых Наций (ООН) в 1945 г. СССР получил в ней статус полноправного члена. Но за год до этого события на Вашингтонской конференции представителей внешнеполитических ведомств США, СССР и Великобритании, советский дипломат Андрей Громыко поднял вопрос о том, чтобы членами ООН стали все шестнадцать
союзных республик. Важным аргументом в этом вопросе было членство британских доминионов и колониальной Индии в Лиге Наций с 1919 г. Это заявление естественно вызвало протест западных стран, и президент Рузвельт выдвинул встречное требование о том, чтобы членами ООН стали все 48 штатов США.
Компромисс, в конечном счёте, был найден и полноправными членами ООН становятся Украинская и Белорусская Советские Социалистические Республики. Сталин выбрал эти республики по двум причинам: во-первых, они были братскими славянскими народами, а во-вторых, они сильнее всего пострадали во время Великой Отечественной войны. В итоге СССР получил три полноценных голоса в Генеральной Ассамблее ООН.
Сталин опасался, что если СССР будет представлен в ООН как единое государство, то его позиции в ней будут крайне слабы – всего один голос. В этой связи в срочном порядке всем союзным республикам планировалось предоставить атрибуты государственности, а конкретно – возможность иметь собственные министерства иностранных дел и обороны.
Для реализации этой задачи 27 января 1944 г. на пленуме ЦК ВКП(б) Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выступил с торжественной речью, в которой объявил, что «мы планируем предоставить союзным республикам право устанавливать прямые дипломатические отношения с иностранными государствами и подписывать с ними договоры» [1, с. 2-3].
На основании данной инициативы, 1 февраля 1944 г. Верховным Советом СССР был принят Закон «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних сношений и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский» [7, с. 29]. Ранее сфера иностранных дел и оборона, согласно ст. 14 Конституции 1936 г., находились в исключительном ведении высших органов власти CCCР [5]. Однако Молотов полагал, что теперь ситуация изменилась, так как мобилизация в годы Великой Отечественной войны значительно повысила статус союзных республик.
Реформа 1944 г. превращала СССР в конфедерацию, аналогичную той, которую в 1923 г. на двенадцатом съезде партии предлагали И.И. Яковлев и В.И. Скрипник и отвергнутую Сталиным. «…Мы создаём не конфедерацию, – говорил Сталин в 1923 г., – а федерацию республик» [11, с. 336].
При реализации поправок 1944 г. учитывались возможные риски. Сталин понимал, что реформа могла повлечь за собой усиление сепаратистских настроений в союзных республиках, что, в случае острого политического кризиса, грозило дезинтеграцией союзного государства.
Реформа 1944 г. позволяла возродить политическую ситуацию, имевшую место до 1922 г., когда советские республики являлись, по сути, суверенными государствами и проводили собственную внешнюю политику, несмотря на некоторую степень экономической и идеологической зависимости от РСФСР [1, с. 9-11]. Республики имели договорные отношения с соседними государствами, такими как Турция, Польша и страны Балтии. При этом особенно интенсивными дипломатические отношения были между самими республиками.
Успехи Красной Армии и последовательное расширение советской власти в 19191921 гг. юридически вылилось не столько в аннексию новых территорий, сколько в создание формально независимых республик. Каждая новая советская республика немедленно признавалась другими республиками полноправным членом федеративного сообщества.
Большевики отказались от политической концепции унитаризма, взятой на вооружение в Версальской Европе. Они использовали принципы автономии, федерации и конфедерации. На этой почве устанавливались тесные контакты периферийных советских республик с соседними несоциалистическими странами, в частности, Украина и Белоруссия активно взаимодействовали с Восточной Польшей.
По отношению к СССР зарубежные страны разделились на два лагеря: одни из них хотели заключать международные соглашения только с РСФРС, другие же рассматривали со- ветские республики независимыми суверенными государствами и заявляли о своей готовности налаживать международные контакты непосредственно с ними. В частности, турки, требовавшие от советских дипломатов во время московских переговоров в марте 1921 г. суверенитета для кавказских республик, пытались подписать соглашения с каждой из них, но безуспешно [6, с.1].
Даже после своего образования в 1922 г. СССР был далёк от распространённого на Западе образа «тюрьмы народов». Ранний СССР – это скорее сообщество сателлитов, связанных с Москвой не только дипломатическими, но и партийными связями. Данная система подчинённости ознаменовала собой становление ни на что не похожей практики политической власти, которая отвергла многие традиционные инструменты государства.
Такая ситуация не могла продолжаться слишком долго и в начале 1920-х гг. Г.В. Чичерин, занимавший в те годы пост наркома иностранных дел, заговорил о необходимости уточнения характера отношений между советскими республиками. В частности, Чичерин исходил из того, что отношения между РСФСР и Украиной должны принять форму «конфедеративного союза», а не «федеративного государства» [4, с. 30-31]. По его инициативе 28 декабря 1920 г. между РСФСР и Украинской ССР заключён Союзный рабоче-крестьянский договор, в котором «признавалась независимость каждой из сторон» [10, с. 166-168].
Советские авторы тех лет затруднялись даже точно охарактеризовать складывающуюся политическую ситуацию. Так, Н.И. Палиенко в работе «Конфедерации, федерации и Союз Советских Социалистических Республик» (1923 г.) характеризовал СССР как «своеобразную конфедеративную структуру» [9, с. 157-159].
Таким образом, речь Молотова, произнесённая им 27 января 1944 г., открыла возможность для возрождения политического контекста начала 1920-х годов. Положения Закона от 1 февраля 1944 г. были радостно встречены в союзных республиках. Так, в апреле 1944 г., председатель Совета Министров Казахской ССР Нуртас Ундасынов назвал «чрезвычайно важным событием в истории казахского народа» вступление Казахской СССР на международную арену [3, с. 55].
Вместе с тем, нельзя сказать, что после реформы 1944 г. союзные республики получили полный карт-бланш на реализацию своих внешнеполитических инициатив. На практике всё продолжало оставаться как прежде, и ни один важный внешнеполитический шаг не мог быть сделан, не иначе, как по сигналу из Москвы. В то же время советское руководство стало уделять больше внимания формальному участию республик в деятельности органов внешней политики. На ключевые посты в советских дипломатических ведомствах чаще стали назначаться представители от республик.
Примечательно, что в условиях «холодной войны» западные аналитики, дипломаты и общественные не раз заявляли о своём желании устанавливать прямые дипломатические контакты с Украинской и Белорусской ССР. В частности, западный политолог и правовед Бог-дан-Тадей Галайчук, эмигрировавший в своё время из Украины и поселившийся в Аргентине, настаивал на признании Украинской ССР как субъекта международного права, как на единственно возможном способе сделать её свободной и независимой [2, с. 32-33]. В то же время американский дипломат Мэттью Харрисон, директор управления по европейским делам Госдепартамента США отмечал, что «международное признание Украины как самостоятельной политической единицы приведёт к усложнению американских отношений с Советским Союзом и даст советскому правительству манёвры для продвижения своих собственных интересов на международной арене» [12, с. 84].
Следует всё же признать, что Украинской и Белорусской ССР удалось извлечь выгоды от членства в ООН путём присоединения к целому ряду международных конвенций и договоров. В частности, по инициативе белорусской делегации была принята резолюции о выдаче и

наказании военных преступников на 1-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Белорусская ССР подписала мирные договоры с Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией.
Украинская ССР подписала международные договоры с Международной Организацией Труда (МОТ), стала участником Конвенции о режиме судоходства на Дунае 1948 г., Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и некоторых других многосторонних договоров, касающихся здравоохранения, культуры и образования.
Хотелось бы также отметить, что Украинская и Белорусская ССР представляли советские республики на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1960 г., где активно выступали за национальное самоопределение народов и принятие Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
Другие советские союзные республики, не получившие членство в ООН, были в значительно большей степени ограничены в возможности выражать свою международную позицию. Тем не менее, с приходом Никиты Хрущёва и переориентацией советского внешнеполитического курса на более активное взаимодействие со странами «третьего мира» для республик Средней Азии и Закавказья отрылись новые перспективы. После реформы 1944 г. в общесоюзные делегации стали чаще включаться представители союзных республик. Так, в состав делегации от СССР, принимавшей участие в Сингапурской конференции по развитию торговли для стран Дальнего Востока и Азии в октябре 1951 г. вошёл министр иностранных дел Узбекской ССР.
Вместе с тем одного факта присутствия представителей республик в составе советских делегаций недостаточно для того, чтобы говорить о наличии международной правосубъектности у них. Договорная правоспособность республик блокировалась действовавшим общесоюзным законодательством (ст. 14 Конституции СССР 1936 г. и ст. 73 Конституции СССР 1977 г.), так как относилась к предметам исключительного ведения Союза.
Участие союзных республик в международных ярмарках и экспорте также не может рассматриваться как доказательство их международной правосубъектности, поскольку даже провинции унитарных государств осуществляют аналогичную деятельность. То же самое можно сказать и о международных научных и культурных контактах союзных республик, которые не могут служить доказательством их международной правосубъектности.
Ситуация изменилась только в последние годы существования СССР, когда степень международной правосубъектности союзных республик резко возросла на фоне возросших центробежных тенденций в Советском Союзе. К концу 1980-х гг. перестроечные преобразования советского общества зашли в тупик. Быстро нарастал скептицизм советского народа в отношении самой возможности улучшения социализма и целесообразности дальнейшего движения по пути строительства «светлого будущего». В стране резко упала рождаемость. Техногенные катастрофы – Чернобыль, гибель подводной лодки «Комсомолец» – усиливали разочарование в способности руководства справиться с кризисными явлениями в экономической, политической, идеологической и культурной сферах жизни советского общества.
Угроза экономического краха, политическое банкротство руководства КПСС, несостоятельность административно-командных методов управления, ослабление цензуры и стремление к бóльшей политической открытости привели к пробуждению националистических и антироссийских настроений в советских республиках. Всё громче раздаются открытая критика и призывы к большей независимости от власти Москвы. В результате к концу 1990 г. сложилась критическая ситуация, когда руководство страны и лично Михаил Горбачёв испытывали давление 15 сепаратистки настроенных республик.
В ноябре 1988 года о своём суверенитете объявляет Эстония. В мае 1989 г. за ней последовала Литва, а в июле – Латвия. В декабре 1989 г. о своей независимости от КПСС заявила Коммунистическая партия Литвы. Это привело Советский Союз и республики к открытой конфронтации и создало прецедент для других республик. Даже Татарстан в августе 1990 г.
объявил себя суверенным государством и субъектом международного права. Националистические настроения, которые также наблюдались в Грузии, Украине, Армении и Азербайджане, буквально преследовали последние годы существования Советского Союза.
С подписанием Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 декабря 1991 г., СССР прекратил своё существование как «субъект международного права и геополитическая реальность» [8]. В последующие годы, в целях институционализации отношений внутри СНГ, Российская Федерация инициировала ряд соглашений с бывшими советскими республиками. Однако большая часть этих договоренностей так не была выполнена и постепенно республики СНГ стали отдаляться от России, которая в то время пыталась стабилизировать свою разрушенную экономику и наладить связи с Западом.
Список литературы К вопросу о международной правосубъектности сложных государств (на примере СССР)
- Выступление В.М. Молотова на Пленуме ЦК ВКП (б), 27 января 1944 г., Российский государственный архив общественно-политических организаций (РГАСПИ г. Москва), Ф. 82. Оп. 2. Д. 48.
- Гaлaйчук Б. Нaцiя пoнeвoлeнa, aлe дepжaвнa: Укpaїнськa визвoльнa спpaвa з мiжнapoднo-пpaвoвoгo пункту бaчeння. Мюнхeн: Сучaснa Укpaїнa, 1953.
- Дипломатия Казахстана: страницы истории / Ильяс Козыбаев; М-во образования и науки Респ. Казахстан. Алмат. гос. ун-т им. Абая. Алматы: Ѳркениет, 2001.
- Записки Г.В.Чичерина от 6 декабря 1920 г., Российский государственный архив общественно-политических организаций (РГАСПИ г. Москва), Ф. 82, Оп. 2, Д. 8.
- Конституция СССР 1936 года, принятая на Чрезвычайном VIII съезде Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г. / Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. 6 декабря 1936 года. № 283.