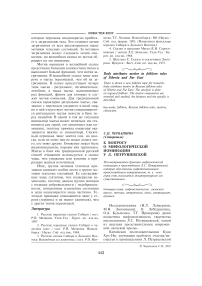К вопросу о мифологической номинации у Л. Петрушевской
Автор: Черкашина Светлана Павловна
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Проблемы русистики
Статья в выпуске: 2 (46), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются функции мифологической номинации в произведениях Л.С. Петрушевской, которые обусловлены мифотеонимичным происхождением антропонимов, т. к. «имя героя есть показатель долитературного его существования».
Мифопоэтическое, "женская проза", теоним, антропоним, оним, матриархат, архаика
Короткий адрес: https://sciup.org/148164186
IDR: 148164186
Текст научной статьи К вопросу о мифологической номинации у Л. Петрушевской
Исследователями (Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий, О. Леб¸душкина, О.А. Кузьменко, Т.Г. Прохорова) давно подмечена мифопоэтичность творчества писательницы Л.С. Петрушевской, одной из ведущих представительниц современной «женской прозы».
Китайская исследовательница Куан Хун Ни, изучавшая проблему счастья/не-счастья в произведениях Л. Петрушевской
и китайской писательницы Чи Ли, считает появление «женской прозы» явлением мировым и связывает этот процесс с «противоречивой ролью продолжающихся и преодолеваемых традиций. Наибольшего обострения столкновение меняющейся реальности и традиций достигло в ХХ в., что породило в различных мировых литературах такое новое явление, как «женская проза»» [3, с. 12]. Для «женской прозы» характерно мировидение, которое обусловлено взглядом на женщину как на демиурга, манифестирующего иные, отличные от мужских, ценности в жизни и в человеке, что созвучно мировоззрению Петрушевской: «они творят // ежеминутно // еду // мир // чистоту // сытых //здоровых // спящих // чистых // детей // мужей // стариков // во веки веков» [6, с. 511]. Поэтому писательница часто называет женщину богиней, эта мысль красной нитью проходит через ее произведения: «...я машинально подумала // надо // погасить там свет // там – в небесах // (погасить луну) // о // разум женщины // так могла бы подумать // последняя старуха // покидая этот мир... » (Там же, с. 243). Метафорическое погашение света женщиной-старухой вычитывается из текста Петрушевской как описание древнего эсхатологического мифа о конце света. Наделенная божественной сущностью и таким образом способная осуществить акт гибели мироздания путем перевода его в состояние «тьма», женщина также может и дать миру начало через трансформацию тьмы в свет. Петрушевская не описывает собственно предначальный космогонический акт творения мироздания, но он присутствует в тексте эксплицитно. Актуализация Петрушевской божественного статуса своих героинь позволяет ей создавать частный инвариант книги Бытия, где писательницей манифестируется «И сказала Богиня: да будет свет. И стал свет». Как отмечал швейцарский психиатр К. Юнг: «”Нести свет” – неотъемлемое качество природы богини...» [13, с. 126]. Создавая индивидуальный миф, Петрушевская отталкивается как от мифов архаических, так и литературных. При этом писательница опирается на весь спектр мифопоэтического инструментария, выделенного И.С. Приходько: «Абсолютизация главной <...> черты-идеи»; соотнесение писателя с «вечным» литературным или мифологическим образом посредством сравне- ния, аллюзий; «мифологизация “культурных” имен» [8, с. 201 – 203].
В индивидуально созданной космогонии Петрушевской интересен номинативный аспект, «для писателя не безразличен выбор имени его героя...» [2, с. 3]. Поэтому настоящая статья ставит целью рассмотреть проблему синтеза мифопоэтики и ономапоэтики в художественных текстах Л.С. Петрушевской и выявить роль мифологической номинации у Л. Петрушевской. В качестве гипотезы можно выдвинуть следующее: средствами номинации Л. Петрушевская создает на страницах своих произведений современный женский миф, опираясь на архетипическую память.
Нами было проанализировано 277 произведений Л.С. Петрушевской (собрание сочинений Л. Петрушевской в 5 т., сборники «Настоящие сказки», «Московский хор», «Измененное время») и составлены мужской и женский имясловы. Интересен выбор писательницей женских имен. Наиболее употребимыми в текстах Петрушевской являются следующие собственные имена:
|
Варианты имен |
Кол-во использований |
|
Анна, Аня, Анюта, Нюся, Нюра, Анчутка, Донна Анна |
20 |
|
Нина, Ниночка, Нинка, Нина Николаевна |
14 |
|
Таня, Татьяна, Танюша, Танька |
13 |
|
Лена, Ленка, Леночка, Елена, Елена Прекрасная |
12 |
|
Ирина, Ирина Петровна, Ира, Иринка, Иришка, Ирена |
11 |
Как видно, наиболее употребимым у Петрушевской является женское имя Анна, переводимое с древнееврейского (Hanna) как «благодать» [11, с. 259 ] и «миловидная» [10, с. 26 ], с латинского (Annus) – «год» [5, с. 83 ]. Аллюзийно это имя указывает на героинь с таким же именем в русской и мировой литературе: «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Анна на шее» А.П. Чехова, «Анна Снегина» С.А. Есенина и, конечно, Донна Анна из пьес о Дон Жуане, а Анна Ахматова напишет: «Мне имя дали при крещенье Анна, // Сладчайшее для губ людских и слуха... »
В своей книге «Белая богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии» английский поэт и теоретик литературы Роберт Грейвс заметил: «Едва начинаешь немного разбираться в элементарной грамматике и морфологии мифа, со- ставляешь небольшой словарик... не перестаешь удивляться, насколько близко к поверхности лежат забытые с после-гомеровских врем¸н объяснения легенд, все еще благоговейно сохраняющихся как часть нашего европейского наследия» [1, с. 209]. О распространенности номинатива Анна именно как наименования матриархальной богини-матери можно судить по количеству божеств с похожими именами. Анана-гунда - богиня плодородия и пчеловодства у абхазов [5, с. 75]. В дравидской мифологической системе сохранились космогонические мифы, где главную роль играет женское божество, мать и создательница. - Анангу (Там же, с. 393). Ананке, мать мойр в древнегреческой мифологии, Еврипид считал самой могущественной из всех божеств, т.к. она вращает «веретено, ось которого - мировая ось» (Там же, с. 75). Анчугка. - летающее и одновременно водяное злое божество мужского рода в восточнославянской мифологии (Там же, с. 90). Такая панорама дает представление о широте охвата близких Средиземноморью стран именем Анна, значение которого нужно выяснить. «Не исключено, - предполагает Грейвс, - что "Анна" значит "царица" или "богиня-мать" [1, с. 426]. Патриархальный мир вывел маскулинные религии из матриархальных культов, хотя «на самом деле это Ar-ri-an, высокая плодовитая мать <... > поворачивает колесо Небес», - пишет Грейвс и заключает: «Если кому-то нужно простое и емкое имя для Великой Богини, то лучше имени Анна, не сыскать» (Там же, с. 428 - 429). Египетский город Солнца, который древние греки называли Гелиополь, Библия -Он, сами египтяне называли Анну, именно в его реке выстирала пеленки Иисуса Богородица Мария, мать которой звали Анна.
Какой предстает героиня Петрушевской с именем Анна?
Часто используемое Петрушевской описание жизни и быта двух соседних по подъезду семей составляет сюжетную канву ее самой знаменитой пьесы «Уроки музыки», в которой, нейтрализуя бытовое, проявляется бытийное, онтологическое, основанное на мифологической платформе, что, собственно, и определяет эстетическую ценность произведения. Рассмотрим роль второстепенного персонажа пьесы Анны Степановны, с появления которой начинается театральное действо, когда она входит в квартиру Гавриловых и со- общает, что муж Грани, Иванов, вернулся из тюрьмы и валяется пьяным в подъезде.
В свете поставленной задачи выявления функций номинации в творчестве Пет-рушевскойобратимсяканализуименвпьесе. В семью Гавриловых (от Га вр иил ^ из др.-евр. Габриэль - габри - сильный , эль - бог [9, с. 51]) возвращается из тюрьмы сожитель матери семейства Грани Иванов. Граня с Ивановым в разводе, таким образом, парная симметрия разрушена, что знаменует собой начало будущего хаоса. Сама Граня (Аграфена. Осиповна. ^ от муж. Агриппа, ногами вперед ; Осип ^ Иосиф Бог умножит ) и трое ее детей: старшая Нина, Витя ( победитель ) и крошечная Галька, (греч. galene — штиль, тишина, безветрие ), прижитая от Иванова и родившаяся во время его пребывания в тюрьме, проживают в двухкомнатной квартире, пространство которой сакрализовано теонимической по происхождению фамилией Гавриловы.
Нарушает это пространство Анна Степановна, живущая в этом же подъезде. Примечательна авторская ремарка, предваряющая ее появление в квартире Гавриловых: «Звонок. Витя срывается открывать. Вместе с ним кидается заплаканная Нина, в дверях удерживает Витю, спрашивает: "Кто там?" (... ) Нина накидывает цепочку, открывает дверь, долго смотрит, затем впускает соседку Анну Степановну» [7, с. 57]. Дверь - место перехода, в иное пространство, из которого приходят Анна Степановна и Иванов и куда потом выйдет Граня. Петрушевская опускает момент закрывания дверей, следовательно, границы Дома нарушены.
Вот какой Анну Степановну представляет писательница: «Анна. Степановна.- маленькая, сухая женщина, работает ночным сторожем и поэтому днем всегда свободна. Она в переднике, с закатанными рукавами. Лицо е¸ выражает глубокое горе». В свете рассматриваемой в статье проблемы интересно имя героини, которая наделена именем архаической Богини, патроним же Степановна оттеняет его значение: (с греч.) Степан ^ Стефан ^ Стефанос - венец, корона, диадема; диадема - атрибут Геры, хто-нической Богини [9, с. 302]. Реконструкция номинативных значений обоих имен говорит о доминантной функции этого образа в пьесе, потому что именно она дает новые векторы развития действия. В мифологических системах разных народов женское отождествляется с природой, луной, тьмою; Петрушевская неоднократно подчеркивала в своих произведениях, что время ее героинь – ночь. Анна Степановна работает сторожем, потому что ночь связана с женским началом, это время опасности и разгула нечистой силы, а в христианской мифологии – это время мертвых, час битвы духа и искушения, молитвы и проклятия, борьбы света и тьмы. Сама о себе она говорит следующее: «я только покою никак не найду, все меня черт носит», маркируя, таким образом, пространственный локус как дьявольский и свое определенное место в нем [7, с. 60]. Подъезд – сфера ее дьявольской деятельности. На праздничном ужине у Козловых она «подвывает» Ф¸дору Ивановичу, глаза «горят», придавая ей ведьминский вид. Ф¸дор Иванович говорит о ней («твой Сергей-то небось думает, что ты исчезла с лица земли») как о нечистой силе (Там же, с. 64). Как ведьма, она находится в подчинении у черта, во власти которого весь локус вне квартиры Гавриловых. Ее сравнение Иванова с боровом («Что же это делается, а? Разлегся, боров немытый, а?») не только является реминисценцией на евангельский рассказ о бесах, изгнанных Христом и вселившихся в свиней, и роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, где есть сцена полета домработницы Маргариты Наташи на борове, но и определяет образ Иванова как бесовский.
Так Петрушевская вводит в повествование мотив нечистой силы. Сравниваемый с боровом, кастрированным кабаном, Иванов как образ лишается функции отцовства; Галя, которая поэтому не может быть его потомком, переходит в категорию детей божественных, когда имеется только мать. Брошенная Граней девочка становится как бы ребенком самой Нины, что реконструирует архаический миф о чудесном зачатии вне брака. Действие пьесы происходит зимой, именно тогда рождается христианский Бог; но в перев¸рну-том мире Петрушевской Богоматерь дарит миру не Спасителя, а Спасительницу, которой предназначено нести крест вместо мужчины. В мифопоэтической традиции вознесение Нины с Галей на качелях вычитывается как реализация богородичного мифа.
Одновременное появление возле са-крализованного пространства Анны Степановны и Иванова как инфернальной сви- ты нечистой силы определяет будущее развитие конфликта в пьесе. Вторжение Анны Степановны, начавшей захват территории, последующее появление Иванова, которого Граня добровольно приведет в Дом через открывшийся Злом «коридор», завершит разрушение защитных сил домашнего пространства, что закончится абортом для Грани, потерей невинности для Нины и потерей дома для Вити и Гали.
В свете мифа изложенная в пьесе история вычитывается как борьба добра и зла. Демоническим персонажем оказывается не черт, как это ни парадоксально, а чертовка Анна Степановна, что вполне естественно в авторской мифологии Петрушевской. Таким образом, заданные именами божественные потенции не реализуются, а модифицируются в профанное.
« ...Имя всегда откуда-то исходит, – пишет А.Ф. Лосев в своем философском труде "Имя", – имя есть символ личностный и энергийный, или – энергийно-личностный символ. Эта формула, однако, ярче выражает свою сущность, если мы скажем, что имя есть магико-мистический символ. Такова диалектическая природа имени» [4, с. 236 – 237]. В произведениях Петрушевской номинация подчинена замыслу построения индивидуальной мифологии, в которой собирательный мифообраз архаической Богини крутит «колесо Небес», или земную ось, метафорой которого у Петрушевской является «выключение света». Исследовав ономапоэтическую топику текстов Петрушевской, мы показали, что, манифестируя божественную сущность женщины, Петрушевская наделяет ее мифо-теонимичными по происхождению номинативами, т.к. «имя героя есть показатель долитературного его существования» [12, с. 226]. Пользуясь мифологическим номинативным арсеналом, Петрушевская актуализирует не собственно архаический миф, но активно воплощает архетипическое женское начало. Итогом вышесказанного может служить высказывание Карла Густава Юнга о том, что « коллективное бессознательное впитывает психологический опыт человечества, длящийся многие века <... >. Наши души, как и тела, состоят из тех же элементов, что тела и души наших предков, тем самым они хранят память о прошлом, то есть архетипическую память...» [14, с. 109]. Таким образом, наиболее употребляемые в произведениях Петрушевской женские имена – архаические номинативы-теонимы, актуализирующиеся посредством архетипической памяти.