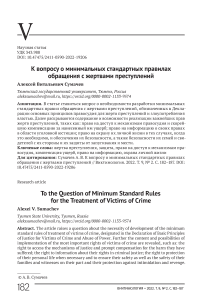К вопросу о минимальных стандартных правилах обращения с жертвами преступлений
Автор: Сумачев А.В.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Потерпевший от преступления
Статья в выпуске: 2 т.9, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье ставиться вопрос о необходимости разработки минимальных стандартных правил обращения с жертвами преступлений, обозначенных в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью. Далее раскрываются содержание и возможности реализации важнейших прав жертв преступлений, таких как: право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб; право на информацию о своих правах в области уголовной юстиции; право на охрану их личной жизни в тех случаях, когда это необходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопасности их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от запугивания и мести.
Жертва преступления, защита, право на доступ к механизмам правосудия, компенсация ущерб, право на информацию, охрана личной жизни
Короткий адрес: https://sciup.org/14124228
IDR: 14124228 | УДК: 343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2022-19206
Текст научной статьи К вопросу о минимальных стандартных правилах обращения с жертвами преступлений
Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия ,
,
Нет сомнений в том, что соблюдение и обеспечение прав человека, вовлеченного в систему уголовного правосудия — в нашем случае, прежде всего, преступника и жертвы преступления — задача не только важная, но и актуальная во все времена. Но здесь, однако, заметим, что Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными 30 августа 1955 г. исполнилось 66 (!) лет; Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью — лишь 35 (приняты 26 ноября 1985 г.). Сравнение весьма показательное даже по столь «примитивному» признаку. Если же обратиться к реализации положений названных документов российским законодателем и правоприменителем, то обнаружиться существенная «пропасть» между обеспечением прав преступников (заключенных) и их жертв (потерпевших от преступлений).
Описание исследования
Так, простое сравнение положений действующего Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК России) и Уголовного кодекса РСФСР (далее — УК РСФСР) 1961 г. свидетельствует о значительных преимуществах первого в части улучшения положения виновного (преступника), причем эти решения носят конкретно-прикладной (а значит, реальный) характер. Нет сомнений, что это важное достижение юридической науки и национального уголовного законодательства. Но что касается охраны и обеспечения интересов жертв преступлений, законодательные формулировки, как правило, носят печать декларативности. В итоге, вера граждан нашей страны в действенность защиты своих прав со стороны государства достаточно мала. Так, согласно проведенному нами исследованию, на вопрос о фактическом положении потерпевших от преступления в области уголовного правосудия 1,8 % анкетируемых лиц ответили, что интересы потерпевших от преступлений полностью удовлетворяются; 55,6 % — интересы удовлетворяются, но не в полном объеме; 33,9 % — интересы скорее не удовлетворяются; 7,8 % — интересы потерпевших от преступлений совсем не удовлетворяются, а 1,9 % опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос1. Пример весьма образцовый.
Гуманизация в обращении с преступниками не должна противопоставляться гуманному отношению к жертвам преступлений. Тезис этот является аксиомой в науке. Так, еще в 1990 году Н. И. Загородников и А. Б. Сахаров по этому поводу отмечали: «Гуманизм обычно связывают лишь с наказанием: его целями, задачами, видами, размерами, правилами назначения и т. д. Между тем гуманизм уголовного права имеет более широкое и глубинное значение, предполагающее отношение к человеческой личности как объекту не только правового воздействия, но и уголовно-правовой охраны» [1, с. 51]. Множество ученых в последующем развивали тезис названных авторов. В частности предлагалось: определить в уголовном законе понятие потерпевшего и его правовой статус; разработать практически отсутствующий в уголовном законе механизм возмещения вреда, причиненного преступлением; усовершенствовать институт уголовного преследования, осуществляемого в частном порядке (С. В. Анощенкова, В. Е. Батюкова, И. В. Бондаренко, Л. В. Вавилова, С. Г. Вой-тенко, Л. В. Головко, Е. В. Давыдова, В. В. Дорошков, В. Е. Квашис, Н. И. Коржанский, А. Н. Красиков, А. А. Лакеев, А. Г. Мазалов, Б. А. Протченко, В. М. Савицкий, В. В. Це-нева, П. С. Яни и многие др.). Стоит заметить, что большинство предложений были весьма конкретные и, главное, вполне реальные и выполнимые. Но, как говориться, «воз и поныне там».
Можно конечно сослаться на зарубежную юридическую и социально-юридическую практику, которая свидетельствует о том, что решение вопросов обеспечения интересов жертв преступлений переносится из правовой области в сферу организационной деятельности [см.: 2, 3, 4]. Однако национальная традиция такова, что большинство решений различных общественно-политических проблем осуществляется на нормативно-правовом уровне — должно быть конкретное нормативное предписание.
В этой связи видится необходимым разработать действенный национальный механизм реализации «минимальных стандартных правил обращения с жертвами преступлений», обозначенных в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью.
Среди важнейших прав жертв преступлений в Декларации названы:
-
— право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб;
-
— право на информацию о своих правах в области уголовной юстиции;
-
— право на охрану их личной жизни в тех случаях, когда это необходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопасности их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от запугивания и мести.
Первоначально ответим на вопрос, соответствуют ли положения российского законодательства (прежде всего уголовного) этим минимальным правилам.
Итак, право на доступ к механизмам правосудия. По нашим данным, на предложение оценить по пятибалльной шкале возможность реализации права на возбуждение уголовного дела (доступ к правосудию) к оценке «1» склоняется 11,3 % опрошенных, к оценке «2» — 8,3 %, к оценке «3» — 20,4 %, к оценке «4» — 23,3 % и к оценке «5» — 36,7 %. Как видно, обычные российские граждане не усматривают больших трудностей при реализации права на доступ к механизмам правосудия. И на уровне уголовного законодательства механизм реализации данного права жертвы преступления гарантирован. В ряду таких гарантий существенное место занимает установление уголовной ответственности за незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ), за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), за халатность (ст. 293 УК РФ).
Абсолютно иная ситуация складывается в сфере реализации права на скорейшую компенсацию жертвам преступлений нанесенного им ущерб (право на возмещение вреда). Стоит заметить, что в рамках учения о потерпевшем нет иной проблемы, заслуживающей столь пристального внимания ученых-правоведов (С. В. Анощенкова, В. Е. Батюкова, И. В. Бондаренко, Л. В. Вавилова, С. Г. Войтенко, В. Е. Квашис, Н. И. Коржанский, А. А. Лакеев, А. Г. Мазалов, Б. А. Протченко, В. М. Савицкий, А. М. Эр-делевский и др.). Вместе с тем, решение указанной проблемы еще далеко от совершенства. В свое время, УК РСФСР 1960 г. определял в качестве одного из видов уголовного наказания, возложение обязанности загладить причиненный вред (п. 6 ст. 21; ст. 32 УК РСФСР). Помимо этого, добровольное возмещение нанесенного ущерба или устранение причиненного вреда, являлось одним из обстоятельств, смягчающих ответственность (п. 1 ст. 38 УК РСФСР). УК РФ 1996 г., в свою очередь, определяет «оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему» лишь в качестве обстоятельства, смягчающего наказание (п. «к» ст. 61 УК РФ). Несомненно, что между обстоятельством, смягчающим наказание, и самим наказанием существует большая разница. Если первое выступает поощрением для стимулирования позитивного поведения вредопричинителя (преступника), то второе, обладая принудительным характером, обеспечивает наибольший эффект защиты интересов пострадавшего (возмещение вреда). Таким образом, вызывает недоумение отказ в действующем уголовном законодательстве подобной более или менее действенной меры по возмещению вреда. Более того, в п. 9 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью определяется: «Правительствам следует рассмотреть возможность включения реституции в свою практику, положения и законы в качестве одной из мер наказания (курсив — автор) по уголовным делам в дополнение к другим уголовным санкциям». В итоге складывается ситуация при которой обычные граждане оценивают возможность реализации права на возмещение вреда, причиненного преступлением, не слишком высоко: на «1» и «2» — 44,5 %; на «3» — 2 3,8 %; на «4» и «5» — 31,7 %. В этой связи видится целесообразным внести обязанность возместить причиненный преступлением вреда в число уголовных наказаний, а в практической деятельности — рекомендовать судам широкое его использование в качестве альтернативы наказаниям, не связанным с изоляцией от общества (штрафу, обязательным работам, исправительным работам, ограничению по военной службе). Смеем утверждать, что государственная политика вообще и уголовная, в частности, не на словах, а на деле, должна быть ориентирована на всемерную защиту интересов законопослушных граждан, тем более, жертв преступлений.
Кроме того, в части реализации положений анализируемой Декларации необходимо предусмотреть государственную обязанность компенсации причиненного вреда. Основаниями для этого утверждения являются: с одной стороны, не слишком высокий процент раскрываемости (в том числе и латентности) преступлений; с другой — ф актическая невозможность большинства преступников возместить причиненный вред собственными силами либо даже посредством принудительной силы государства. Яркой иллюстрацией последнего обстоятельства являются данные обобщения практики возмещения исков осужденными к лишению свободы, где в 48 % удержаний в пользу погашения исков не производится вообще; в 30 % — иски возмещаются от 0–25 % от заявленных сумм;
в 13 % от базового показателя — иски возмещаются от 25 до 50 % заявленных сумм. Таким образом, государству следует принять «на себя» обязанность по компенсации причиненного потерпевшему вреда. Наряду с этим, в отдельных случаях решение данной проблемы следует возложить на самих жертв преступлений, например в порядке добровольного страхования. Но и здесь следует разработать, во-первых, механизм оценки страховых сумм , подлежащих выплате страховыми компаниями при наступлении соответствующего страхового случая (например, по аналогии с обязательным страхованием автогражданской ответственности), а равно уголовно-процессуальные способы реализации права на получение страховых выплат .
Право жертв преступлений на охрану их личной жизни в тех случаях, когда это необходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопасности их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от запугивания и мести (право на безопасность). Согласно нашим данным, 58,2 % обычных граждан оценивают право на защиту (безопасность) от давления со стороны преступника (его близких, друзей и т. п.) на «1» и «2»; 15,2 % — на «3»; 26,6 % — на «4» и «5». Не смотря на столь удручающие данные, можно признать, что уголовно-правовой механизм обеспечения безопасности жертв преступлений является вполне разработанным, хотя и незавершенным. Так, УК РФ допускает причинение вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), физическом или психическом принуждении (ст. 40 УК РФ). В Особенной части УК РФ, в качестве гарантии обеспечения безопасности личности (в том числе — потерпевшего) предусмотрена уголовная ответственность прокурора, следователя или лица, производящего дознание за незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ); за принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ); за подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний свидетеля и потерпевшего (ст. 309 УК РФ); за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса (в том числе — п остра-давшей стороны) (ст. 311 УК РФ).
Однако на организационно-правовом уровне механизм реализации права жертв преступлений на безопасность нельзя признать даже удовлетворительным. Можно даже указать, что принятие комплексного законодательного акта, в котором в системном порядке были бы определены механизмы обеспечения безопасности лиц, вовлеченных в орбиту уголовного правосудия, затянулся слишком надолго1. Но и в принятом 20 августа 2004 г. Федеральном Законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» проблема обеспечения безопасности жертв преступлений полностью не решена. Частично это проявляется в разрегулирован-ности норм данного закона и положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства (например, при соотношении категорий: потерпевший и жертва; потерпевший физическое лицо и потерпевший юридическое лицо и т. п.); в большей мере — с практических позиций (например, по свидетельству К. А. Саркисян, вменение в обязанность Органам внутренних дел РФ обеспечение государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников, содействующих уголовному судопроизводству, не только не улучшит ситуацию в применении федерального закона, о котором идёт речь, но и прописанные меры безопасности не дадут того положительного результата, на который надеялся законодатель). В этой связи следует сделать основной упор на развитие организационно- правового механизма обеспечения эффективной защиты (безопасности) жертв преступлений (например, по типу Федеральной Службы Маршалов, действующей в США).
Возможность реализации права на информацию о своих правах в области уголовной юстиции (юридическую помощь), определяемого Декларацией, в Российской Федерации также оценивают неоднозначно. Вновь используя пятибалльную систему, отметим, что к оценкам «1» и «2» склоняются 29,5 % респондентов; к «3» — 27,9 %; к «4» — 22,3 %; к «5» — 20,3 %. Как видно, возможность реализации права на информацию о своих правах области уголовной юстиции оценивается позитивно. Хотя здесь стоит указать на некоторую российскую специфику. В частности, источником получения такого рода информации в большинстве случаев являются опыт других лиц (близких, друзей, знакомых), которые являлись потерпевшими — 45,8 %, а равно средства массовой информации (телевидение, печатные издания) — 34,7 %; в меньшей степени собственный опыт потерпевшего — 15,3 % либо иной опыт (как правило, практической деятельности респондента) — 4,2 %. В части предложений для повышения информационной помощи жертвам преступлений, следует, на наш взгляд, во-первых, ввести ее оказание в обязанность соответствующих органов, а во-вторых, определить конкретный перечень информации, в обязательном порядке предоставляемой жертвам (информация о характере и сущности преступления; о возможной реакции государства на данное деяние; о ходе и результатах судебного разбирательства; о возможных видах и мерах наказания виновного; о перемещении осужденного по местам отбывания наказания, переводе его на работы вне колонии, предоставлении краткосрочного выезда из мест лишения свободы, предоставлении условно-досрочного освобождения; о способах и порядке возмещения вреда; о наличии медицинских и социальных услуг и порядке обращения в специализированные учреждения). Несомненно, что этот перечень не может являться исчерпывающим, ибо зависит от степени разработки законодательства и сложившейся практики.
Заключение
В завершение отметим, что здесь лишь указали на наиболее существенные черты минимальных стандартных правил обращения с жертвами преступлений и их отражение в законодательстве России. В целом же механизм их реализации представляется несовершенным, что настоятельно требует самого пристального внимания со стороны юридической науки.
Список литературы К вопросу о минимальных стандартных правилах обращения с жертвами преступлений
- Загородников Н. И., Сахаров А. Б. Демократизация советского общества и проблемы науки уголовного права // Советское государство и право. 1990. № 12. С. 50-56.
- Квашис В. Е., Вавилова Л. В. Зарубежное законодательство и практика защиты жертв преступлений: монография. Москва: ВНИИ МВД России, 1996. 124 с.
- Квашис В. Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. Москва: Издательский дом NOTA BENE, 1999. 280 с.
- Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 544 с.