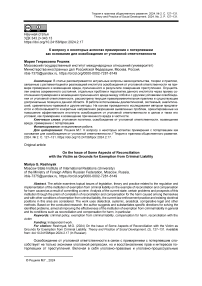К вопросу о некоторых аспектах примирения с потерпевшим как основания для освобождения от уголовной ответственности
Автор: Решняк М.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные вопросы законодательства, теории и практики, связанные с регламентацией и реализацией института освобождения от уголовной ответственности на примере примирения и возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления. Осуществлен анализ современного состояния, отдельных проблем и перспектив данного института через призму соотношения примирения и возмещения причиненного вреда между собой и с другими условиями освобождения от уголовной ответственности, рассмотрена текущая правоприменительная практика и существующие доктринальные позиции в данной области. В работе использованы диалектический, системный, аналитический, сравнительно-правовой и другие методы. На основе проведенного исследования автором предлагаются и обосновываются конкретные направления разрешения выявленных проблем, ориентированные на повышение эффективности института освобождения от уголовной ответственности в целом и таких его условий, как примирение и возмещение причиненного вреда в частности.
Уголовная политика, освобождение от уголовной ответственности, возмещение вреда, примирение с потерпевшим
Короткий адрес: https://sciup.org/149144915
IDR: 149144915 | УДК: 343.2+343.13 | DOI: 10.24158/tipor.2024.2.17
Текст научной статьи К вопросу о некоторых аспектах примирения с потерпевшим как основания для освобождения от уголовной ответственности
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия, ,
of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation, Moscow, Russia, ,
нормы, предусматривая условия и порядок отказа государства от уголовного преследования лиц, совершивших преступление, данный межотраслевой институт является неотъемлемой частью уголовной политики государства и представляет собой одно из проявлений ее гуманистического направления (Решняк, 2023: 559).
Используя не только репрессивный подход, но и обращаясь к альтернативным возможностям защиты интересов потерпевшего от преступления, в частности примирению, государство посредством оных стимулирует лиц, совершивших преступление, к оказанию помощи органам расследования и добровольному заглаживанию причиненного преступным деянием вреда. Подобная практика давно наблюдается в зарубежных странах (Ashworth, 2002; Liu, Palermo, 2009), чей позитивный опыт решили заимствовать при совершенствовании российского законодательства и практики его применения.
Суть концепции примирительного правосудия (медиации) состоит в том, что уголовное наказание, являясь своего рода возмездием со стороны государства, фактически не решает возникшего социального конфликта между пострадавшим от преступления субъектом и его обидчиком, а иногда и стимулирует его эскалацию. Реализация данной концепции осуществляется путем дополнения традиционного уголовного судопроизводства особой процедурой примирительных переговоров, которые проводятся уполномоченными лицами (медиаторами), направленных на достижение соглашения между непосредственными участниками, т. е. потерпевшим и подо-зреваемым/обвиняемым. Хотя государство не является непосредственным участником примирительных переговоров, однако нельзя забывать, что при совершении многих преступлений причиняется вред не только конкретному физическому лицу, но и общественным отношениям, охраняемым государством. В связи с этим следует обратить внимание на необходимость соблюдения оптимального баланса интересов не только потерпевших от преступлений и лиц, их совершивших, но и интересов государства (Агаев, Степанов, 2018: 138–140).
В настоящее время институт освобождения от уголовной ответственности регламентирован статьями 75–76.2, 78, 84, 90 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а также примечаниями к отдельным статьям его Особенной части, в которых речь преимущественно идет о специальных случаях такого освобождения в связи с деятельным раскаянием (например, примечания к ст. 126, 222, 222.1, 322.3 УК РФ).
За исключением истечения сроков давности (ст. 78 УК РФ), в остальных общих основаниях (видах) освобождения от уголовной ответственности, содержащихся в гл. 11 УК РФ, помимо требования к категории преступления (небольшой или средней тяжести), возможность их применения обусловлена выполнением лицом, совершившим преступление и привлеченным к уголовной ответственности, определенных законом действий, в частности возмещением ущерба или иным заглаживанием вреда, причиненного преступлением. Однако, если в ст. 75 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием) и ст. 76.2 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа) указанное условие закреплено в качестве одного из альтернативных действий, то в ст. 76 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим) в качестве обязательного условия закреплено, кроме примирения с потерпевшим, лишь заглаживание вреда, причиненного преступлением, а в ст. 76.1 УК РФ (Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба) предусмотрено освобождение от уголовной ответственности только в связи с возмещением ущерба, причиненного в результате совершения перечисленных в этой статье видов преступлений. По нашему мнению, для достижения большей результативности защиты прав и законных интересов граждан, гарантированных Конституцией РФ, а также возможности более эффективного применения ст. 76 УК РФ необходимо дополнить ее содержание обязательным условием в виде возмещения в полном объеме причиненного преступлением ущерба, изложив ее в следующей редакции: « Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, возместило в полном объеме причиненный преступлением ущерб и загладило причиненный потерпевшему вред ».
Распространение данных оснований освобождения от уголовной ответственности исключительно на деяния, относящиеся к категориям преступлений небольшой и средней тяжести, представляется вполне оправданной законодательной мерой, тем более что в структуре уголовных дел, поступающих в суды ежегодно, доля лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за подобного рода преступления, выше чем доля лиц, привлекаемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений1.
Как обоснованно отмечают отдельные ученые, в частности М.Т. Аширбекова, введение в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство понятия примирения ознаменовало начало реализации «человекоцентристского» подхода к разрешению возникающих уголовно-правовых конфликтов с учетом мнения потерпевших от преступлений. Прекращение уголовного дела в связи с примирением, по сути, вовлекает граждан в процесс реализации уголовной политики государства в части сокращения уголовно-правовой репрессии по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести (Аширбекова, 2016: 9–11). Однако при этом обращается внимание на такой недостаток в регламентации указанного основания освобождения от уголовной ответственности, как отсутствие обязательности волеизъявления потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, примирившихся между собой, для должностных лиц, расследующих или рассматривающих соответствующее уголовное дело (Аширбекова, 2016: 9–11).
Вместе с тем, с нашей точки зрения, для того чтобы законодательно закрепить прямую зависимость применения основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренного ст. 76 УК РФ, от волеизъявления примирившихся лиц при условии соблюдения требования о полном заглаживании причиненного вреда, включая возмещение потерпевшему причиненного преступлением ущерба в полном объеме, необходимо, чтобы регламентация и толкование названного основания, обеспечивающие единообразную практику по данному вопросу, исключая таким образом широкое усмотрение при принятии соответствующих решений, были осуществлены на уровне постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и/или внесения соответствующих изменений в ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ).
Полагаем, что в настоящее время законодательная регламентация института освобождения от уголовной ответственности в целом и его отдельных видов (оснований) не в полной мере отвечают принципам правовой определенности и системности правового регулирования соответствующих общественных отношений.
В частности, применительно к рассматриваемому виду освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим в ст. 76 УК РФ, равно как и в других статьях гл. 11 УК РФ, не определяется понятие лица, совершившего преступление впервые, не раскрывается понятие возмещения ущерба или иного заглаживания вреда. Также отдельными учеными справедливо обращается внимание на то, что значительные трудности на практике возникают в случаях принятия решения об освобождении от уголовной ответственности по рассматриваемым основаниям при совершении лицом многообъектного преступления небольшой или средней тяжести (Винокуров, 2019; Винокуров, Федорова, 2018), поскольку, например, примирение с потерпевшим от хулиганства, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ, оставляет вопросы относительно того, учитывать ли при этом то, что виновный одновременно нарушил публичный интерес – общественный порядок. Сходная проблема нередко возникает и применительно к другим многообъектным преступлениям, в частности по делам о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, когда наряду с причинением вреда здоровью или смерти потерпевшему виновный в первую очередь посягает на указанную безопасность.
По делам о преступлениях против безопасности дорожного движения и другим преступлениям, в результате которых непосредственно потерпевшему по неосторожности причиняется смерть, также возникает проблемный момент, разрешаемый на практике посредством обращения к уголовно-процессуальному законодательству, позволяющему признать по такому делу потерпевшим кого-либо из близких родственников погибшего лица (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). Между тем, как обоснованно отмечает Э.Л. Сидоренко (2011, 2015), необходимо учитывать особенный статус потерпевшего именно в уголовном праве, что, на наш взгляд, требует дополнения ст. 76 УК РФ примечанием, уточняющим понятие потерпевшего в данной статье, включающего возможность примирения с лицом, к которому перешли процессуальные права и обязанности непосредственного потерпевшего по соответствующему уголовному делу: « Примечание. Под потерпевшим в настоящей статье понимается физическое или юридическое лицо, признанное таковым в соответствии со ст. 42 УПК РФ ».
Кроме того, неразрешенным в уголовном законе остается проблемный вопрос о том, как быть правоприменителю в ситуации, когда впервые совершаемое преступление небольшой или средней тяжести было прервано на стадии покушения и не причинило потерпевшему какого-либо вреда, что исключает возможность его возмещения, тогда как последнее является обязательным условием для освобождения от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ.
Отметим, что многие из этих вопросов разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»1, в котором, в частности, были раскрыты понятие лица, впервые совершившего преступление, а также понятие заглаживания вреда для целей ст. 76 УК РФ. Однако, по нашему мнению, в интересах полного соблюдения принципа законности (ст. 3 УК РФ) эти и другие основные понятия института освобождения от уголовной ответственности следует определить непосредственно в уголовном законе.
При дальнейшем совершенствовании рассматриваемого института не меньшее значение имеет и обеспечение системности правового регулирования соответствующих общественных отношений на уровне как уголовного законодательства, так и уголовно-процессуального. Например, в ч. 1 ст. 75 УК РФ говорится о возмещении ущерба или ином заглаживании вреда, тогда как в ст. 76 УК РФ - о заглаживании вреда; в уголовном законе применение этих норм является правом судьи или должностного лица правоохранительного органа, тогда как в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ дела частного обвинения подлежат прекращению при достижении примирения по ним, при этом одновременно запрещено прекращать по заявлению потерпевшего дела частнопубличного обвинения.
Отметим, что отсутствие системности в правовом регулировании взаимосвязанных общественных отношений имеет место и применительно к другим общим основаниям освобождения от уголовной ответственности. Например, в ходе разработки проекта постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»1 было уделено значительное внимание проблемным вопросам освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления в связи с проявившимся недостатком правового регулирования в данной области, которое заключалось в том, что в ч. 1 ст. 28 действовавшего на тот момент УПК РФ содержалось ограничение возможности применения положений ст. 76.1 УК РФ в отношении лиц, совершивших налоговые преступления и полностью возместивших причиненный бюджетной сфере РФ ущерб. Рассматриваемое положение УПК РФ, ничем не обоснованное, вступая в противоречие с уголовным законом, не содержащим подобного ограничения, лимитировало возможность суда принятием решения лишь до назначения дела к рассмотрению (Борисов, 2020: 69-72).
Для устранения возникшего законодательного противоречия Верховный Суд Российской Федерации разработал и предложил к рассмотрению проект федерального закона, при принятии которого2 расширились процессуальные возможности применения положений об освобождении от уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших налоговые преступления.
Таким образом, уголовная политика государства, совершенствуя институт освобождения от уголовной ответственности, в том числе такое основание, как освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, реализует гуманистические начала. Однако, по нашему мнению, применяемый на практике такой вид (основание) освобождения от уголовной ответственности, как примирение с потерпевшим, достигаемое на основе заглаживания причиненного вреда, нуждается в уточнении.
Выделенные в настоящей статье проблемы преимущественно могут быть разрешены путем внесения некоторых изменений и дополнений, направленных на уточнение содержащихся в них формулировок используемых понятий, в соответствующие статьи гл. 11 УК РФ и УПК РФ. Для этого следует на законодательном уровне при внесении соответствующих законопроектов обеспечить правовую определенность и системность в регламентации освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования, а на уровне правоприменительной деятельности соответствующих правоохранительных органов - непротиворечивое и единообразное толкование положений законодательства.
В заключение отметим, что примирение является не только одним из условий освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76 УК РФ, но еще и отражает суть рассматриваемого института в целом, поскольку при его формировании и дальнейшем развитии государство, в лице законодательных органов, приходит к определенному компромиссу в рамках борьбы с преступностью, т. е. выражает готовность не применять репрессию к лицу, совершившему преступление, и готово примириться с ним, но при одновременном выполнении ряда условий. Отметим также, что элементы примирения устойчиво закрепились и в уголовном судопроизводстве, причем не только в отношении прекращения уголовных дел, в том числе частного обвинения, но и при рассмотрении уголовных дел в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, поскольку применение такого порядка рассмотрения дела требует, в частности, согласия потерпевшего.
Список литературы К вопросу о некоторых аспектах примирения с потерпевшим как основания для освобождения от уголовной ответственности
- Агаев Г.А., Степанов Ю.И. Новый взгляд на институт освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Ленинградский юридический журнал. 2018. № 1 (51). С. 138-145.
- Аширбекова М.Т. Законопроект Верховного Суда РФ: процессуальные средства продвижения примирения обвиняемого с потерпевшим // Мировой судья. 2016. № 2. С. 9-14. EDN: VKQRCN
- Борисов С.В. Новые позиции Пленума Верховного Суда РФ по делам о налоговых преступлениях // Уголовный процесс. 2020. № 3 (183). С. 69-75. EDN: YREDFK
- Винокуров В.Н. Возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим при совершении многообъектного преступления // Законность. 2019. № 6 (1016). С. 52-55.
- Винокуров В.Н., Федорова Е.А. Объект преступления и освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Уголовное право. 2018. № 6. С. 16-21. EDN: MWRZRW
- Решняк М.Г. К вопросу о специальных видах освобождения от уголовной ответственности по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе // Всероссийский криминологический журнал. 2023. Т. 17, № 6. С. 557-566. DOI: 10.17150/2500-4255.2023.17(6).557-566 EDN: BAUDZS
- Сидоренко Э.Л. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: в поисках уголовно-политического начала // Мировой судья. 2015. № 11. С. 26-31. EDN: UNNVGL
- Сидоренко Э.Л. О статусе потерпевшего в уголовном праве // Журнал российского права. 2011. № 4 (172). С. 77-84. EDN: NREGNL
- Ashworth A. Responsibilities, rights and restorative justice // British Journal of Criminology. 2002. Vol. 42, no. 3. P. 578-595. EDN: GSZWVH
- Liu J., Palermo G.B. Restorative justice and Chinese traditional legal culture in the context of contemporary Chinese criminal justice reform // Asia Pacific Journal of Police and Criminal Justice. 2009. Vol. 7, no. 1. P. 49-68.