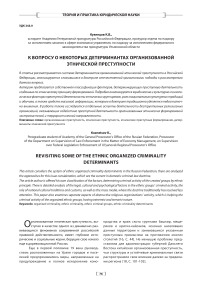К вопросу о некоторых детерминантах организованной этнической преступности
Автор: Кузнецов К.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 2 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается система детерминантов организованной этнической преступности в Российской Федерации, анализируются сложившиеся в доктрине отечественной криминологии подходы к рассмотрению данного вопроса. Автором предлагается собственная классификация факторов, детерминирующих преступную деятельность созданных по этническому принципу формирований. Подробно анализируются юридические и культурно-психоло- гические факторы преступной деятельности этнических группировок, роль национальных культурных традиций и обычаев, а также средств массовой информации, которым в доктрине традиционно уделяется недостаточ- но внимания. В работе также исследуются отдельные аспекты деятельности деструктивных религиозных организаций, оказывающих содействие преступной деятельности организованных этнических формирований экстремистской и террористической направленности.
Организованная преступность, этническая преступность, этнические преступные формирования, детерминанты этнической преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/14120190
IDR: 14120190 | УДК: 343.9
Текст научной статьи К вопросу о некоторых детерминантах организованной этнической преступности
О рганизованная этническая преступность, выступая в качестве одного из динамично развивающихся феноменов современной российской правовой действительности, имеет глубокие исторические и социальные корни, берущие свое начало еще в дореволюционной России.
Еще в первой половине 19 века руководством расположенных на Урале городов и поселений предпринимались меры, направленные на предупреждение и полное искоренение коно- крадства и краж скота группами башкир, мещеряков и кригиз-кайсаков, исконно населявших данные территории и занимавшихся указанным преступным промыслом на протяжении многих столетий [16, С. 44]. Не меньшую проблему представляла для администрации губерний Дальнего Востока китайская организованная преступность, чьи структуры и устойчивые криминальные связи распространяли свое влияние далеко за пределами региона [18, С. 101-102].
Между тем, в отечественной криминологической доктрине единый подход к пониманию вопроса о причинах преступной деятельности организованных этнических формирований и детерминирующих её факторах до настоящего времени не сложился.
Бесспорным является лишь то обстоятельство, что для организованной этнической преступности в целом характерны те же признаки, что и для организованной преступности в целом: организованность и наличие определенной преступной иерархии, корыстно-насильственный характер осуществляемой криминальной деятельности и др.
Однако не стоит забывать о том, что она обладает и отличительными, присущими исключительно ей чертами, связанными с особенностями ее формирования и осуществления преступной деятельности (к примеру, формирование на основе кланово-родовых отношений и др.).
Изложенное, несомненно, обусловлено наличием специфических по своей природе факторов, детерминирующих криминальную деятельность организованных этноформирований в современной России.
Одни авторы, рассматривая вопросы детерминации этнической преступности, акцентируют внимание на активизации миграционных процессов и несовершенстве государственной политики в указанной сфере. К примеру, Ю.В. Кондратенко полагает, что основными причинами зарождения и генезиса этнической преступности на территории нашей страны стали сложность этнического состава населения, усиление внешних и внутренних миграционных процессов, а также негативное влияние межэтнических конфликтов на территории государств бывшего СССР [7, С. 296].
Существует мнение, что к детерминантам этнической преступности следует относить правовые, социально-демографические и социально-экономические факторы [13, C. 58-69].
Вместе согласиться с подобными подходами невозможно по ряду причин. Во-первых, организованная этническая преступность, как было отмечено ранее, имеет богатую историю и в силу этого не является недавно возникшим явлением социально-правовой действительности. Во-вторых, предлагаемые к рассмотрению подходы являются достаточно узкими, вне поля зрения авторов оставлены разнообразные политические, экономические, культурные и иные факторы, которые играют немаловажную роль в процессе становления и развития преступной деятельности этнических формирований и детерминируют их криминальную деятельность.
Л.В. Трапезников и вовсе определил основную причину роста организованной этнической преступности в России как возросшие миграционные потоки из страны Средней Азии и Кавказского региона [17]. Однако данная точка зрения не является бесспорной, так как на уровень организованной этнической преступности в стране влияют не только внешние, но и внутренние миграционные процессы, обусловленные переселением отдельных социальных групп из неблагоприятных в экономическом отношении районов страны в центральную Россию в целях улучшения материального благосостояния.
Наиболее развернутую классификацию причин организованной этнической преступности приводит И.Х. Касаев, который относит к ним социальноэкономические, социально-психологические, этноп-сихо-логические, духовно-нравственные и организационно-управленческие [5, С. 126].
На наш взгляд, исходя из природы и содержания детерминант организованной этнической преступности, их можно подразделить на внутренние и внешние. В свою очередь, внутренние делятся на социально-экономические, юридические, политические и культурно-психологические.
Говоря о первой группе детерминант, необходимо отметить, что существенное влияние на интенсификацию и широкое распространение преступности организованных этнических групп на территории нашей страны оказывают миграционные процессы, связанные с массовым переселением в центральную часть России и на Дальний Восток выходцев из ближнего зарубежья и, в первую очередь, Кавказа, Средней и Юго-Восточной Азии.
Так, М.А. Касьяненко отмечает, что с распадом СССР на Дальний Восток в достаточно короткий срок нелегально перебралось множество представителей китайских организованных групп – так называемых «триад», берущих свое начало еще в Средние века. Отсутствие административных барьеров и ослабление визового режима, наличие большой территории при ее сравнительно небольшой заселенности коренным населением, а также просчеты во внутренней политике сделали свое дело – в итоге в настоящее время основу криминальной деятельности китайской преступности в указанном регионе составляют организация каналов нелегальной миграции, добыча особо ценных природных ресурсов (древесины, пушного зверя) и т.д. [6, C. 2-4].
Одновременно с этим интенсивные миграционные потоки трудовых мигрантов, обусловленные низким уровнем жизни и бедностью населения, устремились в центральную часть России из стран Кавказа и Средней Азии, что закономерно привело к росту преступности среди трудовых мигрантов.
Прибывая на территорию иностранного государства и не имея, как правило, необходимого образования и профессиональной квалификации, иностранные граждане редко могут рассчитывать на достойную работу и высокую заработную плату, обеспечивающую им нормальное существование. В этой связи они чаще всего объединяются в группу из своих соотечественников, осуществляя единую преступную деятельность, направленную на извлечение прибыли.
В качестве одного из примеров, наглядно иллюстрирующих данную стратегию криминальной деятельности этнических группировок, выступает разрастающийся в Москве на протяжении последних лет конфликт между таджикскими этническими группировками за передел сфер влияния.
Одно из столкновений между ними вылилось в события, произошедшие на Хованском кладбище г. Москвы 14.05.2016, когда в конфликте из-за передела сфер влияния между этническими группировками участвовало свыше 200 человек, вооруженных огнестрельным оружием, арматурами и др. подручными средствами [15].
Однако, как уже было отмечено ранее, рост организованной этнической преступности обусловлен далеко не только интенсивными миграционными потоками из стран ближнего зарубежья (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и др.).
Неравномерное экономическое развитие регионов, безработица и низкий уровень жизни вынуждают людей массово мигрировать в центральную Россию с целью улучшения своего материального благосостояния. Вполне очевидно, что избираемые ими при этом способы заработка не всегда являются законными.
Особенно интенсивно данные процессы проходили в 90-е годы двадцатого века, когда в Москве активно промышляли группировки, сформированные из уроженцев Северо-Кавказского региона: Ингушетии, Чечни, Северной Осетии и т.д., однако они не завершены и по сей день [4].
Немалую роль в активизации этнической преступности сыграло развитие отдельных отраслей экономики и их одновременное «разгосударствление» или ослабление контроля за ними – последовательно криминализируются сферы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Как справедливо отметил Р.Х. Кубов, сама идеология свободных рынков, минимизация барьеров для свободного перемещения товаров, услуг, информации, людей переформатировала и «способ действия» организованной преступности, которая так же, как и рынки, получила большую свободу действий [8, C. 31-33].
В качестве юридических (правовых) детерминант организованной этнической преступности выступают несовершенство нормативно-правовой базы, в первую очередь, законодательства антикри-минального цикла (т.е. уголовного, уголовно-процессуального и т.д.), наличие в нем пробелов, а так- же неразработанность и недостаточно четкая регламентация механизмов предупреждения, выявления и расследования преступлений, совершаемых этническими формированиями в процессе осуществления криминальной деятельности. В частности, в Российской Федерации до настоящего времени отсутствует государственная концепция противодействия организованной преступности [1, C. 330]..
Н.В. Кузьмина предлагает рассматривать юридические факторы в более узком плане, развивая учение о негативных правоустановительных, правореализационных и правоохранительных факторах [9, C. 19-20].Данная точка зрения, безусловно, заслуживает внимания, так как такой подход позволяет более детально рассмотреть основные правовые факторы, оказывающие негативное влияние на состояние этнической преступности в стране. Вместе с тем теоретические изыскания Н.В. Кузьминой не лишены недостатков. К примеру, не выдерживает критики высказанная ею идея о таком негативном правоохранительном факторе, как реализации сотрудниками правоохранительных органов практики «этнического профайлинга», т.е. сформированного на основе стереотипов отношения к представителям этнических меньшинств. Принимая во внимание то обстоятельство, что в качестве одной из тенденций развития этнической преступности в современной России выступает наличие коррупционных связей с представителями органов государственно власти и местного самоуправления, а также правоохранительных органов, данная точка зрения во многом выглядит, как минимум, абсурдной.
Политические детерминанты организованной этнической преступности тесно связаны как с внутренней, так и с внешней политикой государства.
Отсутствие единой государственной политики в сфере предупреждения организованной преступности в целом, недостатки в работе правоохранительных органов и отсутствие стройной системы профилактических мероприятий в указанной сфере, их непоследовательная реализация и самоустранение государства от решения важнейших социальных и экономических проблем в обществе – всё это в совокупности способствует росту активности этнических группировок.
С достаточной степенью условности к политическим факторам, оказывающим детерминирующее воздействие на организованную этническую преступность, можно отнести коррумпированность должностных лиц органов публичной власти. Достаточно лаконично описывают данное явление Магомедов А.А. и Наумов Ю.Г., по мнению которых наличие коррумпированных связей для организованных преступных формирований и связь чиновника с указанными формированиями представляет собой ничто иное, как оптимальную схему их взаимного существования, обеспечивающую безопасное существование и облегчающих осуществление криминальной деятельности [11, C. 17].Стоит заметить, что особенно эта проблема актуальна для субъектов Российской Федерации, сформированных по национально-территориальному принципу, где основу государственно-чиновничьего аппарата составляют представители так называемой «титульной нации» в регионе. Вполне очевидно, что риски возникновения коррупционных связей с представителями организованных этнических группировок при данных обстоятельствах, учитывая высокую степень их латентности, значительно возрастают.
Не последнюю роль в системе детерминант организованной этнической преступности играют внешние факторы и, в первую очередь, политическая обстановка в странах ближнего зарубежья. При этом указанное влияние может проявляться в двух аспектах: во-первых, в массовом переселении беженцев (как это происходит в случае с ФРГ и иными странами Западной Европы, куда массово переселяются беженцы с Ближнего Востока) и активизации трудовой миграции вследствие непродуманной миграционной политики; во-вторых, в расширении масштабов действия этнических преступных формирований до транснационального уровня (организация наркотрафиков, импорта суррогатного алкоголя, каналов нелегальной миграции и пр.).
Существенную роль в процессе детерминации организованной этнической преступности играет деструктивная деятельность международных преступных организаций.
Активизация международной террористической организации ИГИЛ, к примеру, привела к активизации действующих на территории Северного Кавказа незаконных вооруженных формирований и иных созданных на этнической основе преступных группировок, активно выражающих поддержку названной организации и имеющих экстремистско-сепаратистский уклон [1].
В этих условиях факторами, отчасти детерминирующими рост организованной этнической преступности, могут стать недостатки во взаимодействии между правоохранительными органами государств-соседей, отсутствие механизмов обмена оперативной информацией и т.д.
Не теряет своей актуальности и проблема противодействия финансированию организованной террористической деятельности в России из-за рубежа. Как отмечает Паненков А.А., финансирование этнических группировок террористической направленности осуществляется в основном из США, Грузии и Турции. При этом финансированием терроризма занимаются как государства, так и религиозные, коммерческие и некоммерческие организации, национальных диаспор и отдельных индивидов, междуна- родных террористических организаций и их ячеек [14, C. 25-41].
По самой скромной оценке А.Г. Хлопонина, в период с 2010 по 2014 гг. занимавшего пост полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, ежегодно в целях финансирования преступных группировок и вооруженных формирований (банд) в регионы Северного Кавказа из-за рубежа поступают около 30 млн. долларов [20].
Учитывая изложенное, можно с уверенностью утверждать, что одним из важнейших факторов, детерминирующих деятельность организованных этнических формирований, выступает финансирование, поступающее из иностранных государств.
Наконец, особое место в системе детерминант преступной деятельности этнических формирований занимают культурно-психологические детерминанты. Наличие национальных традиций и обычаев, этнических характера и темперамента, национального самосознания, а также формирование этнических преступных групп на основе кланово-родовых отношений во многом определяют как характер, так и содержание осуществляемой ими криминальной деятельности. К выводу о том, что в качестве одной из основных причин преступности среди молодежных этнических групп выступают культурные факторы, приходит в своем исследовании, посвященном проблемам преступности этнических меньшинств в Австралии, и профессор Jock Collins [22, С. 23].
Необходимо отметить, что у отдельных этносов до настоящего времени встречаются антиобщественные по своей направленности традиции, влияние которых зачастую и обусловливает совершение их представителями преступлений, поскольку в общественном сознании народа эти деяния не воспринимаются как нечто противоправное. Иные традиции и обычаи, напротив, способствуют сплоченности этносов.
Так, Ульянкина Т.И. и Зюков А.М. в своих трудах отмечают, что для народов Средней и Центральной Азии традиционным является употребление опиума и иных «лёгких» наркотических средств в качестве медицинских препаратов для личного употребления, вследствие чего торговля наркотическими средствами для них, как правило, не является чем-то преступным [19, С. 3; 3, С. 125-126].
Для китайцев характерен промысел в виде охоты на обитающих на Дальнем Востоке животных и добычи растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также их использование для приготовления кулинарных деликатесов и в традиционной китайской медицине. При этом масштабы незаконной добычи китайскими группировками биологических ресурсов по оценке Ляпустина С.Н. и Арсеньева В.К. являются колоссальными [10, C. 55-58].
Чеченскому народу, как и многим народам Северного Кавказа, присущи обычаи кровной мести, взаимопомощи («белхи») и конфискации излишне нажитого членами общины имущества («байталваккхар») [21, C. 64]. В совокупности они порождают коллективизм и тесные взаимоотношения между членами одной общины или группы, основанные на взаимовыручке и родственных связях. При этом отношение к чужой собственности, как видно из обычая байталваккхар, является второстепенным перед интересами общины, что свидетельствует о крепких кланово-родовых отношениях. Недаром чеченская народная пословица гласит: «Аул без согласия и семья без согласия – погибли».
Применительно к деятельности организованных этнических формирований экстремистской и террористической направленности одним из ведущих факторов, детерминирующих их криминальную деятельность, является функционирование деструктивных религиозных организаций.
Особую опасность представляет экстремистская деятельность пропагандирующих радикальные формы исламского фундаментализма террористических организаций, к которым относятся «Имарат Кавказ», «Исламская группа», «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоствен-ного и милосердного) и др.
Практика показывает, что с развитием информационно-телекоммуникационных технологий и сети
«Интернет» указанные организации все активнее используют их потенциал и ресурсы для агитации и вербовки новых членов. В частности, по подсчетам Е.В. Жирухиной для трансляции экстремистских материалов, содержащих сведения о «Джихаде» (священной войне) на Северном Кавказе используют свыше 20 интернет-сайтов и блогов [2, C. 47-48].
При этом В.В. Меркурьев и П.В. Агапов в своих исследованиях по данной проблематике приходят к выводу о том, что в последние годы получают все более широкое распространение идеи радикального ислама – фундаментализма, в которые облекается идеология сепаратизма и сопротивления федеральному центру [12, С. 67; 14, С. 5-7].
Таким образом, деятельность деструктивных религиозных организацийявляется одним из ведущих культурно-психологических факторов, детерминирующих рост этнической организованной преступности.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что на процессы возникновения, развития и распространения организованной этнической преступности в современной России влияют множество факторов, детерминирующих их. Изучение и дальнейшее исследование её детерминант имеет сугубо практическое значение, так как позволяет глубже познать и понять природу этнической преступности, а вместе с этим и сформировать эффективные механизмы ее предупреждения.
Список литературы К вопросу о некоторых детерминантах организованной этнической преступности
- Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 2013.
- Жирухина Е.В. Информационные стратегии радикального исламистского подполья на Северном Кавказе (на примере организации «Имарат Кавказ») // Полития. 2014. № 1. С. 47-60.
- Зюков А.М. Антиобщественные традиции, обычаи и привычки различных этнических групп // Современное право. 2010. № 5. С. 124-127.
- Кавказская преступность в Москве. Бандиты выходят на большую дорогу. В политику // URL: http://www. kommersant.ru/doc/104508 (дата обращения: 28.03.2017).
- Касаев И.Х. Причины и условия преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 2. С. 125-130.