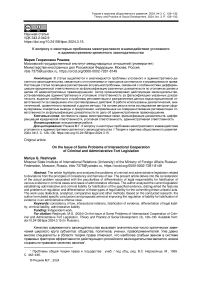К вопросу о некоторых проблемах межотраслевого взаимодействия уголовного и административно-деликтного законодательства
Автор: Решняк М.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье выделяются и анализируются проблемы уголовного и административно-деликтного законодательства, связанные с отступлениями от принципов системности и справедливости права. Настоящая статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы, связанной с особенностями дифференциации юридической ответственности за фальсификацию различных доказательств по уголовным делам и делам об административных правонарушениях. Автор проанализировал действующее законодательство, устанавливающее административную и уголовную ответственность за фальсификацию указанных доказательств, выделил особенности и проблемы регламентации и разграничения данных видов юридической ответственности за совершение этих противоправных действий. В работе использованы диалектический, аналитический, сравнительно-правовой и другие методы. На основе результатов исследования автором сформулированы конкретные выводы и предложения, направленные на совершенствование регламентации ответственности за фальсификацию доказательств по делу об административном правонарушении.
Системность права, межотраслевые связи, фальсификация доказательств, дифференциация юридической ответственности, уголовная ответственность, административная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149144926
IDR: 149144926 | УДК: 343.2:342.9 | DOI: 10.24158/tipor.2024.3.15
Текст научной статьи К вопросу о некоторых проблемах межотраслевого взаимодействия уголовного и административно-деликтного законодательства
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Качество современного законодательства вызывает значительное число критических замечаний широкого круга субъектов: общества, политиков, ученых, правоприменителей. Уже давно многие специалисты в области теории права отмечают, что наиболее слабым звеном в системе правовых факторов эффективности действующего российского законодательства является низкое социально-правовое качество законов1.
Если подвергнуть законодательство, в частности уголовное и административно-деликтное, анализу, то становится очевидным, что деятельность по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) и Кодекс об административных правонарушениях (далее – КоАП), особенно в последнее десятилетие, несет в себе одну существенную проблему, которую можно определить однозначно как несогласованность, бессистемность (Решняк, 2014, 2020). Мы полностью разделяем мнение Ю.Е. Пудовочкина (2013: 93) о том, что низкое качество закона с неизбежностью порождает низкое качество правоприменительной деятельности, что в сфере уголовного права означает низкий уровень защиты прав человека и низкие стандарты безопасности основных интересов личности, общества и государства.
В настоящей статье в очередной раз нами предпринята попытка показать актуальность проблемы соблюдения требований системности и справедливости при внесении изменений в законодательство на примере юридической ответственности за фальсификацию доказательств.
Установление юридической ответственности за фальсификацию доказательств во всех видах судопроизводства является прерогативой уголовного закона, за исключением случаев совершения таких противоправных действий при производстве по делам об административных правонарушениях, которые, в зависимости от определенных обстоятельств, могут повлечь за собой уголовную либо административную ответственность.
Дифференциация юридической ответственности за фальсификацию доказательств по делам об административных правонарушениях была реализована в действующем законодательстве после того, как в соответствии с Федеральным законом от 17 апреля 2017 г. № 71-ФЗ1 диспозиция ч. 1 ст. 303 УК РФ была изложена в новой редакции, согласно которой фальсификация доказательств стала признаваться преступлением не только по гражданскому делу, как это было ранее, но и по административному делу, а также по делу об административном правонарушении (Бекетов, Борков, 2017).
Основным поводом для внесенного изменения в ч. 1 ст. 303 УК РФ стало принятие и введение в действие с 15 сентября 2015 г. Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации2 (далее – КАС). Авторы предложенного законопроекта3 пояснили, в частности, что он направлен на формирование механизма обеспечения нормального функционирования судебной системы, включающего совокупность норм, устанавливающих ответственность за правонарушения, посягающие на установленный порядок осуществления правосудия, при этом наиболее опасные из таких посягательств являются предметом запрета уголовно-правовых норм, в том числе ст. 303 УК РФ. Предлагаемые изменения диспозиции ч. 1 ст. 303 УК РФ были призваны устранить имеющиеся пробелы, заключающиеся в отсутствии на тот момент уголовной наказуемости фальсификации доказательств по административным делам и по делам об административных правонарушениях. По мнению разработчиков законопроекта, она обладает не меньшей общественной опасностью, чем фальсификация доказательств по гражданским делам. Мы разделяем подобный подход инициаторов указанного законопроекта к оценке степени общественной опасности такого деяния, как фальсификация доказательств, независимо от того, в рамках какого судопроизводства это происходит.
Необходимо отметить, что Верховный Суд РФ в отзыве на данный законопроект обоснованно обратил внимание на то, что в ст. 17.9 КоАП РФ предусмотрена ответственность за действия, являющиеся по своей сущности фальсификацией отдельных видов доказательств по делу об административном правонарушении4. Как отметил Верховный Суд РФ, эти противоправные действия отличает то, что они связаны с фальсификацией таких доказательств, которые исходят от физических лиц, вместе с тем за такие же действия, совершенные свидетелем, специалистом, экспертом или переводчиком в рамках производства, например, по уголовному или гражданскому делу, установлена уже уголовная ответственность (ст. 307 УК РФ). В связи с этим наблюдается различная оценка законодателем уровня общественной опасности фальсификации доказательств, указанных в ч. 1 ст. 303 УК РФ и ст. 17.9 КоАП РФ, обоснованность которой, по мнению Верховного Суда РФ, вызывает сомнения1.
Разделяя в целом позицию Верховного Суда РФ, вместе с тем позволим себе не согласиться с его предложением отнести фальсификацию любых доказательств по делу об административном правонарушении к сфере административной ответственности с сохранением в ч. 1 ст. 303 УК РФ уголовной наказуемости фальсификации доказательств только по гражданскому или административному делу. Существующая ситуация, когда фальсификация одних доказательств по административному делу влечет уголовную ответственность, а фальсификация других доказательств по этому же делу – административную ответственность, представляется недопустимой, нарушающей принцип справедливости. Например, на практике возможны случаи, когда один свидетель по делу об административном правонарушении дает ложные показания, а другой свидетель представляет подложное вещественное доказательство, что в настоящее время влечет для первого из них административную ответственность по ст. 17.9 КоАП РФ, а для второго – уголовную ответственность по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Также может иметь место ситуация, когда один и тот же свидетель по делу об административном правонарушении дает ложные показания и представляет иное подложное доказательство, что в настоящее время образует состав как административного правонарушения (ст. 17.9 КоАП РФ) в части ложных показаний, так и преступления (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в части иного подложного доказательства.
С нашей точки зрения, эти действия обладают равной общественной опасностью, поскольку посягают на один и тот же объект – интересы правосудия – и нарушают его с одной и той же степенью, в том числе с позиции возможного влияния фальсификации доказательственной информации на результат производства по делу. Тем не менее в настоящее время данные противоправные действия влекут существенно различающиеся юридические последствия. Так, санкция ч. 1 ст. 303 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. р. либо в размере дохода данного лица за период от 1 года до 2 лет, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев. Тогда как санкция ст. 17.9 КоАП РФ устанавливает только одно наказание – административный штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. р. Обратим внимание на тот факт, что ст. 303 УК РФ расположена в гл. 31 (Преступления против правосудия), а ст. 17.9 КоАП РФ – в гл. 17 (Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти). На наш взгляд, такое существенное различие в санкциях за совершение однотипного деяния (фальсификации доказательств), и в том и в другом случае по сути посягающего на государственную власть в лице судебной власти, явно несоразмерно. Кроме того, правовые последствия также различаются – осуждение по ч. 1 ст. 303 УК РФ помимо уголовного наказания влечет за собой судимость, наличие которой будет отражаться не только на самом осужденном, но впоследствии может затронуть и жизни его близких родственников (например, судимость близкого родственника может оказать негативное влияние на решение о приеме на службу в определенные государственные органы). Полагаем, что такая диспропорция в установлении юридической ответственности существенно противоречит принципу справедливости, поскольку допускает кардинально разные правовые последствия за совершение сходных по социально-правовой сущности деяний. Нам могут возразить, ссылаясь на то, что преступление и правонарушение различаются по степени общественной опасности. Не имея целью опровергать данный фундаментальный постулат, однако в случае фальсификации доказательств позволим себе придерживаться иного мнения.
В обоснование своей позиции предлагаем сравнить ложное заключение эксперта по делу об административном правонарушении, состоящем, например, в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью одному или нескольким потерпевшим, и его ложное заключение относительно подлинности подписи в гражданско-правовом договоре, являющемся предметом рассмотрения по гражданскому делу. Полагаем очевидным, что первое не менее общественно опасно, чем второе. Кроме того, не следует забывать, что доказательства по делу об административном правонарушении в дальнейшем могут предопределять выводы по уголовным делам о преступлениях с административной преюдицией (Роганов, Старокоров, 2017; Хайдаров, 2020).
Сопоставление содержания ч. 1 ст. 303 УК РФ и ст. 17.9 КоАП РФ позволяет заключить, что соответствующее преступление отличается от административного правонарушения тем, что оно выражается в умышленном искажении вещественных и иных доказательств, источник формирования которых не связан с личностью соответствующего участника производства по такому делу, непосредственно воспринимавшего события или проводившего исследование, о которых он сообщает в своих показаниях, пояснении или заключении. Кроме того, в отличие от указанного административного правонарушения, субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, помимо лиц, участвующих в административном деле или производстве по делу об административном правонарушении, также являются представители данных участников и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях либо составлять протоколы о таких правонарушениях. На необходимость включения указания на такие субъекты ответственности в содержание диспозиции ч. 1 ст. 303 УК РФ было указано Правительством РФ в официальном отзыве на соответствующий законопроект1.
Полагаем, что приведенные различия носят преимущественно формальный характер, определяемый особенностями описания состава преступления или административного правонарушения в тексте закона. Если же сравнивать рассматриваемые уголовно и административно наказуемые деяния с позиции их социальной сущности и возможного влияния на исход рассмотрения дела об административном правонарушении, то указанные формальные различия отходят на второй план, поскольку они искусственно разделяют две группы равных по своей общественной опасности противоправных действий по фальсификации доказательств по одной и той же категории дел. Причем общественная опасность действий, наказуемых по ч. 1 ст. 303 УК РФ и ст. 17.9 КоАП РФ, достигает именно ее криминальной степени, в связи с чем и те и другие действия полагаем целесообразным отнести к предмету уголовно-правового запрета, но с одним условием, на которое отдельно обратим внимание.
Считаем, что критерием для дифференциации уголовной и административной ответственности за фальсификацию доказательств по делам об административных правонарушениях, равно как и по гражданским или административным делам, может выступать фактическое или возможное влияние фальсификации определенного доказательства на результат производства по соответствующему делу . Так, по тому или иному делу могут быть даны полностью или частично ложные показания или представлены иные сфальсифицированные доказательства, которые фактически не оказали и потенциально не могли оказать влияние на исход дела. Например, в протоколе об административном правонарушении может быть указано иное время его составления либо свидетель в показаниях может скрыть свое неблаговидное поведение, в частности бездействие по отношению к происшествию, которое он непосредственно воспринимал. Представляется, что в таких и подобных случаях содеянное не обладает значительной (т. е. криминальной) степенью общественной опасности, но тем не менее имеет те характер и степень социальной опасности, которые присущи административному правонарушению. Между тем часть 1 ст. 303 УК РФ в действующей редакции предусматривает формальный состав преступления, что затрудняет признание соответствующих действий малозначительными (Жерновой, 2018).
С учетом изложенного предлагаем:
-
1) дополнить диспозицию ч. 1 ст. 303 УК РФ фразой «… если данные действия повлияли или могли повлиять на решение по соответствующему делу …»;
-
2) в ст. 307 УК РФ полагаем целесообразным дифференцировать уголовную ответственность за предусмотренные в ней действия в зависимости от вида судопроизводства, в рамках которого даны ложные показания, заключение или перевод, а также привести ту же формулировку о влиянии таких действий на решение по делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу ;
-
3) дополнить диспозицию ст. 17.9 КоАП РФ указанием на все виды доказательств по делу об административном правонарушении, гражданскому или административному делу, если в деянии отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ.
Следует отметить, что предлагаемые нами изменения законодательства могут потребовать внесения дополнительных разъяснений в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2022 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия»2.
Таким образом, считаем, что существующая в настоящее время дифференциация юридической ответственности за фальсификацию доказательств по делам об административных правонарушениях не в полной мере согласуется с принципом справедливости и системности. Это проявляется в том, что за равнозначные по сути, характеру и степени общественной опасности действия наступает административная или уголовная ответственность в зависимости от видов доказательств, фальсифицируемых в конкретном случае, тогда как независимо от того, в рамках какого судопроизводства совершены эти действия, негативные последствия для интересов правосудия являются идентичными. С учетом этого и других обстоятельств, изложенных в настоящей статье, нами сформулированы конкретные предложения по совершенствованию уголовного и административного законодательства, направленные на повышение эффективности правовой охраны интересов правосудия в его широком понимании, прежде всего в части производства по делам об административных правонарушениях.
Список литературы К вопросу о некоторых проблемах межотраслевого взаимодействия уголовного и административно-деликтного законодательства
- Бекетов О.И., Борков В.Н. Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении // Уголовное право. 2017. № 5. С. 31-38. EDN: YQNPHD
- Жерновой М.В. К вопросу об ответственности за фальсификацию доказательств по делам об административных правонарушениях // Российская юстиция. 2018. № 2. С. 18-19. EDN: YPBXCP
- Пудовочкин Ю.Е. Гуманизация уголовного закона: некоторые итоги // Библиотека уголовного права и криминологии. 2013. № 1 (1). С. 87-95. EDN: PZJTTH
- Решняк М.Г. К вопросу о целесообразности введения в УК РФ состава преступления с административной преюдицией на примере криминализации нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию // Современное право. 2020. № 2. С. 69-73. DOI: 10.25799/NI.2020.51.36.015 EDN: HFTCMS
- Решняк М.Г. О некоторых вопросах современного уголовно-правового законотворчества // Российский следователь. 2014. № 3. С. 25-28. EDN: RWRDWD
- Роганов С.А., Старокоров А.Б. Проблемы применения норм преюдиции в уголовном процессе при производстве по уголовным делам в сфере экономической деятельности // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 4 (50). С. 139-148. EDN: YNMJHU
- Хайдаров А.А. Актуальные вопросы производства по уголовным делам о преступлениях с административной преюдицией // Законность. 2020. № 8 (1030). С. 45-49.