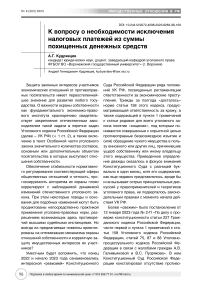К вопросу о необходимости исключения налоговых платежей из суммы похищенных денежных средств
Автор: Кудрявцев А.Г.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки - административное право
Статья в выпуске: 8 (263), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится критический анализ постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2022 года № 53-П и проекта внесения изменений в статью 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым в размер хищения не подлежат включению суммы обязательных платежей. По мнению автора, факт осознания мошенником неизбежности причинения потерпевшему имущественного ущерба, включающего налоговые отчисления, механизм причинения такого ущерба и признание преступления оконченным с момента его причинения не позволяют согласиться обоснованием, приведенным в новелле.
Исключение налоговых платежей из суммы похищенного, охрана отношений собственности, отграничение тайного хищения чужого имущества от находки, определение размера криминального дохода
Короткий адрес: https://sciup.org/170201849
IDR: 170201849 | DOI: 10.24412/2072-4098-2023-8263-98-109
Текст научной статьи К вопросу о необходимости исключения налоговых платежей из суммы похищенных денежных средств
Защита законных интересов участников экономических отношений от противоправных посягательств имеет первостепеннейшее значение для развития любого государства. О важности охраны собственности как фундаментального экономико-правового института красноречиво свидетельствует закрепление отечественным законодателем такой задачи в перечне задач Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) (ч. 1 ст. 2), а также включение в текст Особенной части уголовного закона значительного количества составов, основным или дополнительным объектом посягательства в которых выступают отношения собственности.
Обеспечение стабильности нормативного регулирования соответствующей сферы общественных отношений и четкость, прогнозируемость алгоритма их охраны плохо коррелируют с наблюдаемой динамикой изменений отечественного уголовного закона. При этом некоторые поводы и основания для подобных изменений могут быть продиктованы непосредственно практикой применения уголовно-правовых норм, разрешением возникающих здесь противоречий высшими судебными инстанциями. Но всегда ли предлагаемые новеллы ориентированы на оптимизацию механизма охраны отношений собственности и корректную защиту имущественных интересов их участников?
Уместным будет вспомнить, что конец 2022 и начало 2023 года ознаменовались интересной «ревизией» Конституционного
Суда Российской Федерации ряда положений УК РФ, посвященных регламентации ответственности за экономические преступления. Трижды за полгода «досталось» норме статьи 158 этого кодекса, предусматривающей ответственность за кражу, а также содержащей в пункте 1 примечаний к статье родовое для всего уголовного закона понятие «хищение», под которым понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Приведенное определение дважды оказалось в фокусе внимания Конституционного Суда с разницей буквально в один месяц, хотя его содержание, как еще недавно представлялось, вроде бы и не вызывает острых принципиальных дискуссий у правоприменителей и теоретиков уголовного права, не подвергалось законодательным правкам с момента начала действия УК РФ.
Более «свежим» было постановление от 12 января 2023 года № 2-П «По делу о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой и пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 75, 87 и 88 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.В. Галимьяновой и В.С. Пузрякова». В нем Конституционный Суд Российской Федерации констатировал отсутствие противо- речий с Основным законом страны положений части 1 и пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) применительно к вопросу об отграничении тайного хищения чужого имущества (кражи) от находки как одного из оснований приобретения права собственности (ст. 227 ГК РФ).
Конституционный Суд указал на аспекты рассмотренной им ситуации, которые необходимо учитывать для правильной юридической квалификации пограничных случаев завладения лицом имуществом, имеющим (или нет) признаки утраченного (брошенного) – принципиальное значение здесь будет иметь характер поведения «приобретателя» в процессе и после завладения вещью, красноречиво иллюстрирующий его добросовестность или противоправность совершенных им действий. При этом Конституционный Суд Российской Федерации не призывал федерального законодателя в обязательном порядке конкретизировать составы преступлений, предметом которых выступают потерянные вещи, или вводить ответственность за невыполнение нашедшим вещь требований статьи 227 ГК РФ (при отсутствии признаков кражи), хотя и упомянул о таком его праве. А вот в вынесенном им на месяц раньше постановлении подобное требование как раз содержалось 1. В тексте этого судебного акта были приведены обнаруживаемые на практике противоречивые подходы к содержанию понятия «хищение», разрешение которых, по мнению Конституционного Суда, требует вмешательства законодателя. Очевидно, что любая возможная нормативная корректировка соответствующего понятия спровоцирует дискуссию среди теоретиков и практиков, исследующих проблемы ответ- ственности за посягательства на собственность. При этом представляется, что есть основание поспорить относительно самой необходимости такой корректировки. Напомню суть вопроса, рассмотренного Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении № 53-П.
Поводом для обращения послужила неопределенность в вопросе о толковании понятия «хищение», проявившаяся при рассмотрении судами конкретного дела о совершении мошенничества, – виновный (военнослужащий) представил в уполномоченный орган подложный документ, на основании которого ему выплачивалась ежемесячная надбавка в большем, чем положено, размере. Сумма незаконно выплаченной надбавки составила предмет мошеннического хищения, отраженный в приговоре суда 2. Но выплачивая виновному соответствующую надбавку, осуществлявший выплаты «работодатель», действуя в качестве налогового агента, удерживал из перечисляемой суммы налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), направляя его в бюджет. На то что указанные средства не поступили во владение виновного, обратил внимание суд апелляционной инстанции, исключив суммы удержанного налога из признанных похищенными денежных средств. Это сказалось на расчете общего размера похищенного (он был уменьшен) и, соответственно, повлияло на снижение размера штрафной санкции по сравнению с первоначальным приговором 3. Однако такой подход уже не поддержал суд кассационной инстанции, вернув дело в апелляцию 4, которая и решила обратиться за разъяснениями в Конституционный Суд Российской Федерации.
Рассмотрев запрос, Конституционный Суд постановил признать пункт 1 примеча- ний к статье 158 УК РФ не соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой ввиду своей неопределенности он допускает в правоприменительной практике различную оценку размера похищенного при хищениях, совершаемых посредством обмана о наличии оснований для начисления или увеличения заработной платы (денежного довольствия) применительно к отнесению или неотнесению к этому размеру суммы налога, удержанной и уплаченной налоговым агентом с начисленной под воздействием обмана части заработной платы (денежного довольствия) (пункт 1 резолютивной части постановления № 53-П). В связи с этим федеральному законодателю было указано на необходимость внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, вытекающие из принятого постановления и с учетом выраженных в нем правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации (п. 2). Кроме того, Конституционный Суд закрепил правило, согласно которому до внесения изменений в правовое регулирование ответственности за хищение, совершенное посредством обмана о наличии оснований для начисления или увеличения заработной платы (денежного довольствия), не подлежит включению в его размер сумма налога на доходы физических лиц, которая исчислена и удержана налоговым агентом (п. 3) 5.
Оперативно отреагировав на принятое решение, деловая пресса подала его с про-адвокатских позиций – акцент был явно сделан на выводе суда о некорректности учета сумм налоговых отчислений в общей величине похищенного мошенником имущества (полученных выплат) 6. Иными словами, на вооружение были взяты исключительно положения пункта 3 резолютивной части постановления № 53-П. Авторы публикаций соглашались с прозвучавшим в рассуждениях Конституционного Суда доводом, согласно которому виновное лицо не получает возможность распорядиться средствами, которые в виде налоговых отчислений были рассчитаны, удержаны и перечислены в бюджет работодателем как налоговым агентом при выплате работнику заработной платы (денежного довольствия) 7.
Конституционный Суд Российской Федерации, как представляется, в пункте 3 постановления № 53-П весьма непрозрачно «намекнул» федеральному законодателю на конкретный вариант разрешения возникшей проблемы. Однако в своих рассуждениях он также упоминает (и анализирует) противоположный подход, нашедший отражение в судебной практике, и, собственно, проявивший себя в рассматриваемом деле. Нет никаких сомнений, что выявленные Конституционным Судом разнонаправленные варианты толкования возникшей на практике ситуации имеют своих сторонников среди теоретиков уголовного права. Очень жаль, что авторы оперативно появившегося проекта соответствующей законодательной новеллы не стали сколь-нибудь глубоко вникать в суть теоретических дискуссий. Действительно, уже в феврале 2023 года Министерством юстиции Российской Федерации (далее – Минюст России) было подготовлено (от имени Правительства Российской Федерации) предложение дополнить примечание к статье 158 УК РФ пунктом 5, в котором предусмотрено, что для целей главы 21 УК РФ в размер хищения не подлежат включению суммы обя- зательных платежей, удержанные и (или) перечисленные налоговым агентом и (или) уплаченные плательщиком страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации 8. Пояснительная записка к проекту в основе своей повторяет подход и аргументы Конституционного Суда, хотя некоторые ее положения могут быть использованы для критики обоснования предложенного подхода.
Думается, теперь целесообразно рассмотреть выявленные Конституционным Судом Российской Федерации подходы к анализируемой проблеме с теоретической точки зрения и критически оценить не-поддержанную судом позицию, равно как и наметившееся ее законодательное воплощение.
В основу рассуждений Конституционного Суда, которые были взяты на вооружение деловой прессой для обоснования правильности исключения налоговых отчислений из предмета подобного рода мошенничества, легло универсальное определение момента окончания всех хищений, за исключением разбоя. Соответствующие деяния признаются оконченными с мо- мента изъятия имущества виновным и появления у него реальной возможности им пользоваться или распоряжаться как собственным. Именно такой подход неоднократно упоминался Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в процессе разъяснения им практики применения норм УК РФ об ответственности за наиболее распространенные формы хищений, в том числе применительно к мошенничеству 9. И в рассматриваемом случае не вызывает сомнений то, что виновный не получил фактическую (техническую, физическую) возможность распорядиться той частью рассчитанной ему надбавки, которая была удержана и направлена в бюджет его «работодателем» в виде НДФЛ. Как отмечает Конституционный Суд в рассматриваемом постановлении № 53-П, в этом случае перечисление удержанной налоговым агентом суммы в бюджет не может характеризовать корыстную цель виновного, предполагающую стремление обогатиться лично или обратить похищенное в обладание (пользу) иных лиц 10.
Противоположный подход, упоминаемый Конституционным Судом Российской Фе-
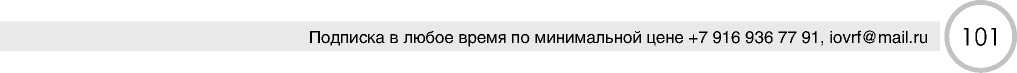
дерации, основывается на учете в подобной ситуации всей величины ущерба, причиненного хищением, который неминуемо возникает в результате выплаты незаконной заработной платы (денежного довольствия, надбавки). Дело в том, что в такой ущерб однозначно включается перечисленная в бюджет сумма налоговых отчислений, так как она также уменьшает фонд заработной платы «работодателя». Надо отметить, что упоминание об ущербе, то есть о потерях, которые ощущает в финансовом (экономическом, имущественном) плане на себе потерпевший, выглядит как более чем обоснованное в связи с одной простой уголовно-правовой истиной: все хищения (за исключением разбоя) – материальные по конструкции составы преступлений. И именно причинение ущерба, неразрывно связанное с изъятием имущества преступником (или в результате действий преступника), и позволяет констатировать «окон-ченность», завершенность хищения.
На указанное обстоятельство всегда обращают внимание исследователи преступлений против собственности. Н.А. Лопашенко, например, отмечает, что «хищение… – материальный состав преступления; для наличия оконченного состава необходимо, чтобы объекту преступления был причинен ущерб» 11. «Ущерб объекту хищения причинен тогда, когда имущество изъято, и собственник или иной законный владелец лишен возможности осуществлять свои полномочия (пользоваться, владеть, распоряжаться имуществом)» 12. Однако далее ученый отмечает, что традиционно определение момента окончания хищения исходит не из позиции потерпевшего, а из позиции виновного, для чего принимается во внимание его возможность распорядить- ся или пользоваться изъятым имуществом. По мнению Н.А. Лопашенко, такой подход оправдан и учитывает действующий в уголовном законодательстве принцип вины, не допускающий объективного вменения. Кроме того, законодатель, определяя понятие хищения, предусматривает, что лицо, изымая имущество, должно обратить его в свою пользу или пользу других лиц, что невозможно, как правило, в момент изъятия 13. «Именно поэтому момент окончания хищения не совпадает точно с моментом изъятия имущества; он наступает чуть позднее, когда похититель может посчитать изъятое имущество своим собственным» 14.
Приведенное описание момента окончания хищения и финальный вывод известнейшего специалиста создают впечатление, что соответствующие рассуждения вполне могли бы быть использованы в качестве аргументов в поддержку позиции теоретиков и практиков, которые ратуют за исключение в ситуации, рассмотренной Конституционным Судом Российской Федерации, и схожих ситуациях налоговых выплат из расчета величины похищенного имущества. Однако в цитируемой работе Н.А. Лопашенко также содержатся положения, которые вполне могли бы использоваться и для обоснования противоположного подхода. Так, ученым отмечается, что ущерб собственнику или законному владельцу причиняется как раз в момент изъятия; это положение является безусловным независимо от того, с чьей позиции – потерпевшего или виновного – исходить; ждать чего-либо еще не требуется. При этом ущерб в хищении – это реальное уменьшение имущества, так называемый прямой положительный ущерб, который определяется стоимостью похищенного 15. Такой подход, на мой взгляд, абсолютно верный: хищения – преступления имущественные, предполагающие воздействие виновного в процессе их совершения именно на имущество (право на него) как на предмет преступного деяния, при этом очевидные негативные последствия нарушения отношений собственности как непосредственного объекта посягательства связаны с неминуемым уменьшением имущественной массы собственника, утрачивающего свои активы в результате противоправных действий преступника. Последствием совершенного преступления и является ущерб, подлежащий обязательной денежной оценке.
Конечно, при противопоставлении любых приводимых аргументов позиция уголовноправовой теории (точнее, учения о моменте окончания преступления в зависимости от конструкции его состава) должна уступать (а иначе и невозможно) решению законодателя. Последний же определил родовое понятие хищения в примечании 1 к статье 158 УК РФ с помощью такой формулировки, которая связывает момент окончания деяния с «обращением имущества в пользу виновного или других лиц», что вроде бы и означает появление возможности распорядиться похищенным. Замечу, однако, что своеобразное уточнение нормативного определения хищения в части выраженного смещения момента окончания соответствующего деяния (некоторых его разновидностей) как раз на момент изъятия имущества уже de-facto зафиксировано практикой применительно к хищению безналичных денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своих разъяснениях указывает именно на момент изъятия таких денежных средств как на момент окончания квалифицированной кражи, предусмотренной пунктом «г»
части 3 статьи 158 УК РФ, а также мошенничества. При этом подчеркивается, что в обоих случаях с фактом изъятия соответствующего имущества как раз и связывается причинение ущерба его владельцу 16 (курсив мой – А.К. ). А это, как представляется, позволяет в подобных ситуациях оценивать для целей квалификации – определения размера похищенного имущества – весь объем списанных со счета средств, не считаясь при этом с тем, что какая-то их часть (определенный процент) могла быть удержана организацией, осуществляющей платежи в качестве оплаты за услуги, а значит, эта «часть» ни при каких обстоятельствах не дошла бы до виновного. В большинстве случаев аналогичная ситуация будет иметь место при снятия денежных средств с похищенной (поддельной) банковской карты в банкомате банка, не являющегося ее эмитентом – со счета действительного владельца карты спишется соответствующий процент за подобную операцию. Есть ли здесь основания сомневаться в обоснованности учета этих средств в рассчитываемой при квалификации величине (сумме, размере) предмета хищения? Ведь виновный мог и не знать о таком условии списания (перечисления) похищаемых денежных средств. Или же, что будет фиксироваться явно чаще, сознательно его игнорировал. Представляется, что здесь ответ может быть исключительно отрицательным: это также похищенное виновным имущество, на величину которого потерпевшему причиняется прямой (действительный, реальный) имущественный ущерб.
Однако вопрос осознания или неосознания виновным факта будущего неполучения какой-то части похищаемого имущества (средств) отсылает нас к другому упоминавшемуся аргументу анализируемого постановления: умыслом виновного (и обя- зательной для состава мошенничества корыстной целью) не охватываются получение удержанных для уплаты налогов сумм и криминальное обогащение за их счет. Оценка этого обстоятельства, безусловно, важна с позиции принципа субъективного вменения, фундаментального для отечественного уголовного права. В связи с этим стоит опять обратить внимание на то, что в уголовно-правовой теории характерный для хищений прямой умысел описывается через указание на осознание виновным общественной опасности своих действий, предвидение неизбежности наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного ущерба собственнику или законному владельцу имущества и желание их наступления 17. В свете этих рассуждений важно, что, предлагая приведенное понимание прямого умысла в хищениях, Н.А. Лопашенко не соглашается с мнением одного из исследователей, допускавшем предвидение возможности наступления преступных последствий. Учитывая характер действий и механизм причинения ущерба соответствующие последствия, по мнению цитируемого ученого, наступают с неизбежностью 18.
Следует еще раз подчеркнуть, что виновный, безусловно, осознает факт причинения своими действиями имущественного ущерба потерпевшему в размере потерь (уменьшения фонда его имущества, активов), которые будут зафиксированы в результате содеянного, и которые будут превышать полученную им (третьими лицами, в пользу которых он действует) имущественную выгоду. Желает ли он причинения ущерба в таком (максимальном) размере, ведь ему будто бы нужна только часть имущества, за счет которой он собирается обогатиться? Вроде только последнее и охватывается его корыстной целью, а значит, иные возможные потери потерпевшего остаются за ее рамками и не должны учитываться при квалификации. Однако стоит взглянуть на ситуацию с другого ракурса, учесть все ее нюансы – виновный при совершении хищения действительно стремится к получению личной выгоды или обогащению других лиц (так, по конкретному уголовному делу преступник действовал с целью получения не 70-процентной, а 100-процентной надбавки к денежному довольствию). Но нет никаких оснований сомневаться в том, что такого преступника (и иных лиц, действующих при схожих обстоятельствах, использующих аналогичный обман для изъятия имущества) совершенно не заботят объективно сопровождающие достижение поставленной им цели потери (убытки) потерпевшего. Субъектом деяния они могут осознаваться как в деталях, так и в весьма общих чертах, приблизительно. Но в любом случае корыстный преступник горячо желает, чтобы имели место и эти потери, и любые иные, чтобы случилось что угодно негативное в материальном плане у потерпевшего, лишь бы была удовлетворена его жажда наживы, корыстная цель 19. Такое развитие событий охватывается умыслом мошенника, формирует содержание его корыстной цели, а раз так, то виновный стремится (желает) причинить весь объем ущерба потерпевшему, который объективно потребуется (и неизбежно наступит!) в результате совершения им преступления. Таким образом, даже осознание виновным того факта, что часть средств будет удержана в счет налогов, не изменяет главного – он готов на это пойти, согласен с этим, лишь бы получить (в рассмотренном случае) вожделенную выплату в большем, нежели он мог претендовать, размере. Кстати, о величине средств, на которые «разорится» потерпевший в ситуации выплаты виновному необоснованных сумм (заработной платы, премии, надбавки и т. п.), преступник вполне может быть осведомлен хотя бы в силу того, что в документах, сопровождающих оформление его трудовых (служебных) отношений с работодателем, соответствующие суммы фигурируют с включенными в них налоговыми отчислениями (с суммой НДФЛ). Именно так они отражаются в трудовом договоре, служебных записках и приказах о премировании, выплате надбавок, в выдаваемых по запросу работника справках о заработной плате и других документах.
Понятным для работника является и установленный порядок действий его работодателя в качестве налогового агента, обязанного производить расчет, удержание и перечисление в бюджет соответствующих сумм. В рассматриваемой разновидности мошеннических действий виновный имеет дело с алгоритмом, который сами авторы законопроекта по дополнению примечаний к статье 158 УК РФ описывали с помощью фразы «нормативно предопределенное перечисление налога на доходы физических лиц» 20. Очевидно, что эта фраза явно неспециально, но усиливает позицию, противоположную критикуемой. Дело в том, что такое развитие событий в части оперирования суммами НДФЛ, высчитываемыми из уже начисленной заработной платы – единственно возможное распоряжение частью заработной платы как имущества «работника». Именно такой вывод следует из содержания незаслуженно проигнорированного Конституционным Судом Российской Федерации его же более раннего определения от 8 февраля 2007 года № 381-О-П «Об от- казе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Ростелеком» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пунктов 5 и 7 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». В документе уточняется: налог – необходимое условие существования государства, поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в статье 57 Конституции Российской Федерации, распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а также государства.
Указанное правило позволяет поспорить с ранее приводившимся аргументом Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которому виновный не может воспользоваться (распорядиться) соответствующей частью имущества, что и позволяет уменьшать на эту величину сумму (предмет) хищения. Не может распорядиться иным, нежели предписанным законом способом, «нормативно предопределенным» способом! Специфическая сущность (предназначение) указанного «имущества» предопределяет характер его использования. Именно поэтому перечисляемая работнику-мошеннику «заработная плата» параллельно лишается заранее рассчитанной своей части, зачисляемой в бюджет. И обусловливает такое развитие событий, еще раз повторю, вполне просчитываемое, осознанное, в том числе в силу нормативной обусловленности подобного алгоритма, именно виновный, добившийся преступным путем необоснованного получения надбав- ки. Происходящее при этом вполне согласуется с понятием корыстной цели, которое предлагает Верховный Суд Российской Федерации, трактуя его шире, чем это отражено в уже приведенной позиции Конституционного Суда о ее содержании, который, как указывалось ранее, говорит о стремлении виновного обогатиться лично или обратить похищенное в обладание (пользу) иных лиц. А в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» закреплено, что «при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен» (курсив мой – А.К.).
Кстати, определение от 2007 года было реакцией Конституционного Суда на жалобу, касавшуюся практики применения статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации, регламентирующей вопрос о зачете излишне уплаченных сумм налога. Напоминаю об этом, так как в пояснительной записке к приведенному ранее законопроекту в качестве подтверждения обоснованности предложенной новеллы указывается, что соответствующие суммы, формирующие ущерб собственника, могут быть компенсированы предусмотренным в налоговом законодательстве механизмом зачета и (или) возврата незаконно уплаченным сумм 21. Технически – действительно, могут. Но ссылка на наличие такой перспективы, воплощение в жизнь которой зависит от дополнительных усилий потерпевшего от преступления, на мой взгляд, не выдерживает критики – это все равно что оце- нивать величину имущественного ущерба, причиненного хищением любому лицу (как физическому, так и юридическому), отталкиваясь от нормативно предусмотренных возможностей последнего взыскать с виновного сумму компенсации, покрывающей понесенные убытки (в виде ущерба и (или) даже упущенной выгоды).
Как представляется, приводимые авторами законопроекта аргументы о механизме зачета (возврата) всех обязательных платежей – как налоговых, так и в виде страховых взносов – некорректны еще и по причине отличающегося механизма их начисления и уплаты – НДФЛ уплачивается из начисленной заработной платы, в то время как для страховых взносов установлен иной порядок расчета и перечисления начисленных сумм – не из заработной платы, а сверх начисленных работнику средств. В отношении этой части имущественных потерь работодателя виновный действительно не реализует корыстную цель, так как может не связывать их выплату с величиной известной ему заработной платы.
Стоит отметить, что логика авторов указанного законопроекта может спровоцировать появление все новых исключений из являющихся предметом хищения сумм, получаемых виновным в виде разного рода выплат (заработной платы, надбавок и т. п.). Так, в очень похожем по механизму совершения преступлении виновный добился получения повышенных выплат (оклада) на основании подложных документов о более высокой квалификационной категории. Однако при определении ущерба, причиненного таким мошенничеством, в том числе для целей расчета взыскиваемых потерпевшим как гражданским истцом средств, в ущерб не были включены не только сумма НДФЛ, но и величина удержаний по исполнительному листу! При этом «звучали» уже не раз упоминавшиеся аргументы – фактическое владение указанными денежными средствами виновный не осуществлял, ими не распоряжался 22.
Основания для проиллюстрированного послабления при оценке содеянного уж точно не усматриваются, в том числе в силу очевидной экономической несправедливости финала истории – средства были перечислены в счет исполнения виновным его обязательств по исполнительному документу, но сделано это было за счет потерпевшего, которому в итоге эти затраты не были компенсированы при рассмотрении его гражданского иска в уголовном деле.
Рассматриваемая проблема не должна восприниматься как частная. Дело в том, что обсуждение любых подобного рода изъятий из предмета хищений, что способно влиять на квалификацию деяния, на масштаб уголовно-правовой репрессии, подливает масла в огонь другой, более принципиальной дискуссии, ведущейся специалистами чуть ли не с момента начала действия УК РФ. Речь о проблеме определения размера криминального дохода для целей квалификации содеянного по норме статьи 171 УК РФ как незаконного предпринимательства.
Принципиально поддерживая идею декриминализации указанного уголовно-правового запрета, но учитывая при этом факт ее текущего присутствия в кодексе, автор настоящей статьи и здесь не представляет себе возможным изменение отраженного в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации подхода к расчету размера соответствующего дохода. Согласно закрепленному ныне правилу таковой образует вся выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности (то есть без государственной регистрации, без лицензии, без аккредитации), без вычета произведенных виновным расходов 23. Казалось бы, такому подходу прямо противоречит уже анализировавшаяся логика Конституционного Суда Российской
Федерации о расчете для целей квалификации величины похищенного имущества. Однако вопреки критикуемым в настоящей статье доводам постановления № 53-П в последовавшем спустя четыре месяца постановлении, посвященном проблеме расчета крупного и особо крупного размеров дохода как криминообразующих и квалифицирующих признаков ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ), Конституционный Суд прямо апеллировал к сложившейся практике применения статьи 171 УК РФ.
В результате в качестве вывода в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2023 год № 19-П «По делу о проверке конституционности части первой и пункта «в» части второй статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пункта 1 примечаний к данной статье в связи с жалобой гражданина С.Ф. Шатило» прозвучало следующее: «доходом, извлечение которого в крупном или особо крупном размере служит одним из условий (признаков) для привлечения к уголовной ответственности,.. является цена контракта, заключаемого по результатам торгов, без ее уменьшения на размер каких-либо расходов, в том числе произведенных или необходимых (планируемых) в связи с исполнением этого контракта, включая расходы по уплате обязательных публично-правовых платежей ». И, замечу, изложенная в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2023 год № 19-П аргументация выглядит весьма убедительной, что позволяет взять ее на вооружение и в рамках продолжения дискуссии по рассматриваемой в настоящей публикации проблеме.
Возвращаясь к ней, в качестве вывода следует отметить следующее: осознание виновным (с позиции субъективной стороны преступления) неизбежности причинения потерпевшему определенного имуществен- ного ущерба как обязательной составляющей объективной стороны деяния, желание наступления указанных последствий для достижения собственных целей, фактическое наступление соответствующего преступного результата, констатирующее момент окончания материального по конструкции состава мошенничества, предполагает, на мой взгляд, необходимость учета в рассмотренной ситуации сумм НДФЛ в составе (в размере) предмета хищения.
Приведенные суждения вряд ли смогут однозначно склонить чашу весов в пользу принятия по анализируемой проблеме именно такого решения – о включении в предмет мошенничества налоговых отчислений, иных затрат и потерь, неизбежно сопровождающих подобного рода хищения. Не думаю, что законодатель решится на кардинальное изменение привычного (в том числе для практики) определения хищения и установления момента его окончания в соответствии с прозвучавшим мнением. Однако, может быть, он задумается о поливариативности подходов к разным фактическим ситуациям с учетом специфики механизма совершения таких хищений, причиняемого ущерба, особенностей предмета, на что также обращает внимание Верховный Суд Российской Федерации в приводившихся выдержках из постановлений его Пленума? В любом случае, хотелось бы, чтобы принимаемое решение было основано на научных наработках, учитывало мнения теоретиков. И напротив, оно ни в коем случае не должно стать очередным своеобразным воплощением идеи гуманизации уголовного закона исключительно в интересах привлекаемых к ответственности лиц, что приведет к ослаблению уголовно-правовой репрессии в ситуациях, по моему мнению, явно этого не заслуживающих.
Список литературы К вопросу о необходимости исключения налоговых платежей из суммы похищенных денежных средств
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ: в редакции от 28 апреля 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2023, № 18, ст. 3238.
- По делу о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой и пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 75, 87 и 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.В. Галимьяновой и В.С. Пузряко-ва: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 января 2023 года № 2-П. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 20.03.2023).
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ: в редакции от 14 апреля 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2023, № 16, ст. 2758.
- По делу о проверке конституционности пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Тихоокеанского флотского военного суда: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2022 года № 53-П. URL: http://pravo. gov.ru (дата обращения: 20.12.2022).
- Приговор Владивостокского гарнизонного военного суда от 8 октября 2021 года № 1-90/202. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Апелляционное определение Тихоокеанского флотского военного суда от 3 декабря 2021 года № 22-94/2021. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Кассационное определение Кассационного военного суда от 26 апреля 2022 года № 77-163/2020. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Кагалтынов Э. Конституционный суд разрешил не включать налоги в размер похищенной зарплаты. URL: https://www. kommersant.ru/doc/5720580 (дата обращения: 13.12.2022).
- Суринская Я. Уплаченный НДФЛ исключат из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении. URL: https://www.vedomosti.ru/society/ articles/2022/12/14/955153-uplachennii-ndfl-isklyuchat-iz-summi-obvineniya (дата обращения: 14.12.2022).
- Корня А. Быстро уплаченное не считается украденным. Конституционный суд попросили разобраться с оценкой размера похищенного. URL: https://www.kommersant.ru/ doc/5632176 (дата обращения: 10.11.2022).
- О внесении изменения в статью 158 Уголовного кодекса Российской Федерации: проект федерального закона. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi7re q=doc&cacheid=55F6266303AF99FFF7E03D D4CDE00DF7&mode=backrefs&S0RTTYPE =0&BASEN0DE=27-58&ts=26531168469190 121987&base=PRJ&n=229745&rnd=01hm7g-#kacpueT2G1FLRB0H1https://regulation.gov. ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=135895 (дата обращения: 15.04.2023).
- Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 158 Уголовного кодекса Российской Федерации». URL: http://www. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&c acheid=55F6266303AF99FFF7E03DD4CD E00DF7&mode=backrefs&S0RTTYPE=0& BASEN0DE=27-58&ts=265311684691901 21987&base=PRJ&n=229745&rnd=01hm7g #kacpueT2G1FLRB0H1https://regulation.gov. ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=135895 (дата обращения: 15.04.2023).
- О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29: в редакции от 15 декабря 2022 года. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
- О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 201 7 года № 48: в редакции от 15 декабря 2022 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 года № 11: в редакции от 30 ноября 1990 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Лопашенко Н. А. Преступления против собственности. Авторский курс. В 4 кн. Кн. II Общая теория хищений. Виды хищения: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. 192 с.
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Ростелеком» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пунктов 5 и 7 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 февраля 2007 года № 381-О-П. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ: в редакции от 18 марта 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2023, № 12, ст. 1877.
- Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 20 декабря 2021 года № 77-5004/2021 . Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ноября 2004 года № 23: в редакции от 7 июля 2015 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- По делу о проверке конституционности части первой и пункта «в» части второй статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пункта 1 примечаний к данной статье в связи с жалобой гражданина С.Ф. Шатило: постановлние Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2023 года № 19- П. URL: http:// pravo.gov.ru (дата обращения: 28.04.2023).