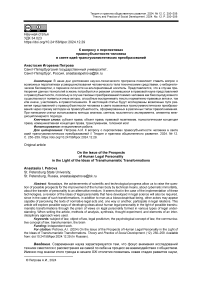К вопросу о перспективах правосубъектности человека в свете идей трансгуманистических преобразований
Автор: Петрова А.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В наши дни достижения научно-технического прогресса позволяют ставить вопрос о возможных перспективах усовершенствования человеческого тела техническими средствами, о кибернетическом бессмертии, о переносе личности на альтернативный носитель. Представляется, что в случае претворения данных технологий в жизнь потребуется и ревизия сложившихся в правовой науке представлений о правосубъектности, поскольку в случае таковых преобразований помимо человека как биосоциодуховного существа могут появиться иные акторы, способные воспринимать тексты нормативно-правовых актов и, так или иначе, участвовать в правоотношениях. В настоящей статье будут исследованы возможные пути развития представлений о правосубъектности человека в свете возможных трансгуманистических преобразований через призму взглядов на правосубъектность, сформированных в различных типах правопонимания. При написании статьи использованы методы анализа, синтеза, мысленного эксперимента, элементы междисциплинарного подхода.
Субъект права, объект права, правовой позитивизм, психологическая концепция права, коммуникативная концепция права, трансгуманизм, головной мозг
Короткий адрес: https://sciup.org/149147627
IDR: 149147627 | УДК: 34.023 | DOI: 10.24158/tipor.2024.12.29
Текст научной статьи К вопросу о перспективах правосубъектности человека в свете идей трансгуманистических преобразований
названная технонаукой. Она представляет собой не техническую науку, а новую форму организации науки, интегрирующую в себе многие аспекты как естествознания и техники, так и гуманитарного познания, пытающуюся дать новые ответы, в том числе на традиционные философские вопросы1 (Горохов, Декер, 2013: 82). Новые технологии создают не только новые возможности, но и новые риски. Многие исследователи допускают возникновение новой глобальной угрозы существованию человечества и видят ее именно в развитии конвергентных технологий (Горохов, Декер, 2013: 82).
Процессы интеграции человека с искусственными средами жизнедеятельности имеют место на всех уровнях психофизиологической и социальной организации людей, включая контакты на макро- и микроуровнях, формируют мировоззрение человека эпохи тотальной интеграции, включающее в себя в том числе иллюзии и избыточные ожидания (Сергеев, 2013: 158).
Принимая во внимание, что в будущем планируется не только физическая и информационная интеграция человека со средой, но и имплантация фрагментов искусственной субъективной реальности в естественную субъективную реальность человека, направленная на изменение ее и, в перспективе, перенос субъекта на иные, нежели биологические, субстраты (Сергеев, 2013: 158), представляется актуальным обращение к феномену трансгуманизма и рассмотрение категории правосубъектности с учетом его возможных последствий.
Методы . При подготовке настоящей работы использованы такие общенаучные методы исследования, как анализ и синтез. Для подготовки выводов в плоскости теории права автор данной статьи прибегла к элементам междисциплинарного подхода с привлечением относимой к теме исследования философской литературы, а также применила общенаучный метод мысленного эксперимента.
Результаты и обсуждение . Приступая к исследованию заявленной темы, первоначально определимся с используемой терминологией: рассмотрим понятие гуманизма и трансгуманизма, морфологически производное от первого.
В философской литературе гуманизм определяется как особый тип философского мировоззрения, в центре которого – человек с его земными делами и свершениями, с присущими его природе способностями и влечениями, с характерными для него нормами поведения и отношениями (Дёмин, 2013: 194). Важнейшим мировоззренческим принципом гуманизма является антропоцентризм (Дёмин, 2013: 194). «В отличие от античного космоцентризма и средневекового теоцен-тризма новоевропейский гуманизм отстаивает антропоцентрическую картину мира, в которой человек занимает самостоятельное («срединное») место между Богом и природой, небом и землей» (Дёмин, 2013: 194‒195). «Квинтэссенцией гуманистического антропоцентрического мировоззрения можно считать кантовский призыв относиться к “человеку как к цели”»2 (Дёмин, 2013: 195).
Трансгуманизм – это термин, производный от введенного в англоязычный обиход переводчиком «Божественной комедии» Данте Генри Фрэнсисом Кэри прилагательного transhuman (Нестеров, 2014: 493). В научный обиход этот термин введен биологом Джулианом Хаксли в 1957 г. в статье «Трансгуманизм» (Белялетдинов, 2013: 229), однако его настоящее значение актуализировалось лишь в 80-х гг. прошлого века, когда некоторые американские идеологи создали общественное движение (Барышников, 2013: 205). В наше время термин «трансгуманизм» обозначает набор мировоззренческих установок, связанных с улучшением биологических свойств человека за счет технологического прогресса3 (Нестеров, 2014: 493).
Д.М. Ковба и Е.Г. Грибовод пишут, что трансгуманизм – это зонтичный термин, охватывающий идеи ученых и общественных деятелей, отказывающихся принимать традиционные ограничения человеческой природы (смерть, заболевания и другие биологические слабости). Трансгуманизм не однороден: он включает в себя различные течения философской, политической, ре- лигиозной и научно-технической направленности1 (Ковба, Грибовод, 2019: 45‒46). В контексте проводимого автором настоящей работы исследования, посвященного проблемам правосубъектности, наибольший интерес среди них представляют перспективы усовершенствования человеческого тела техническими средствами, кибернетического бессмертия, предполагающего перенос личности на альтернативный носитель (Петрова, 2023: 12).
В философской науке отмечается, что первоначально идеи «расширения человека» ( human enhancement ), хотя и были связаны с собственно медицинскими проблемами болезни и восстановления здоровья, но концентрировались в основном вокруг проблем допинга в спорте, косметической хирургии, а также «умных таблеток» ( smart drugs ). Несмотря на то, что эти три сферы практик enhancement существуют во многом обособленно друг от друга, тем не менее они обладают некоторыми общими чертами2 (Аршинов, 2013: 101). В рамках данных практик не идет речь о возникновении радикально новых сверхчеловеческих способностей (Аршинов, 2013: 96‒ 97, 101), ввиду чего представляется, что они не несут в себе оснований для пересмотра сложившихся в науке представлений о правосубъектности.
В свою очередь, на «стадии-два» human enhancement NBIC-конвергенцией3 будут вызваны к жизни новые технологии (Аршинов, 2013: 101), способные, по нашему мнению, потребовать определенного уточнения представлений о субъекте права.
В контексте настоящего исследования представляются значимыми нижеприведенные особенности данных технологий.
-
1. Enhancement обеспечивает качественно новые способности. Разграничительный барьер между лечением и enhancement размывается4 (Аршинов, Буданов, 2016: 64).
-
2. Enhancement оказывается многофункциональным5 (Аршинов, Буданов, 2016: 64).
-
3. Траектории различных путей enhancement размываются и переплетаются, вовлекаясь в конвергенцию различных технологий. Так происходит делокализация проблемы enhancement , ее трансформация в проблему становления новой технокультуры гибридных интерфейсов (квазиобъектов) (Аршинов, Буданов, 2016: 64).
-
4. Данные технологии характеризуются ускоренным темпом развития (Аршинов, Буданов, 2016: 64).
-
5. Убеждение в том, что enhancement даст значительные преимущества тем, для кого эти технологии станут доступными. В соревновательных контекстах бизнеса, образования, оборонной сферы давление в пользу использования human enhancement technologies будет нарастать,
а вызванные ими проблемы станут первостепенными и всепроникающими для повседневной жизни всех людей (Аршинов, 2013: 102).
По состоянию на 2013 г. В.И. Аршинов отмечал, что возможность такого рода преобразований человека наступит в будущем приблизительно через два десятилетия (Аршинов, 2013: 102).
В контексте данных преобразований представляется значимым, что даже если эти преобразования невелики по своим масштабам, в результате их проведения изменяется онтология перенесшего их человеческого существа – человек приобретает свойства, не характерные для него от природы, фактически относящиеся к свойствам вещей (Луков, 2017: 245).
Рассмотрим соотнесение человека, перенесшего соответствующие преобразования, и категории правосубъектности с позиций таких теоретико-правовых концепций, как правовой позитивизм, психологическая, а также коммуникативная концепции права, акцентирующих внимание на различных аспектах понимания субъекта права.
Понимание правосубъектности в данных теоретико-правовых подходах проанализировано автором настоящей работы ранее (см.: Петрова, 2024: 243‒245). Кратко напомним, что с позиций юридического позитивизма субъект права представляет собой конструкцию закона1 (Шершене-вич, 2016: 498‒499), при этом для того, чтобы субъект обладал правами, то есть мог осуществлять свои интересы под охраной правопорядка, нужно, чтобы за ним скрывались в той или иной форме люди (Шершеневич, 2016: 502). С позиций психологической теории права Л.И. Петражиц-кого, некое явление окружающей действительности может быть субъектом права, если имеет место соответствующая правовая императивно-атрибутивная эмоция, приписывающая ему права и, соответственно, иным субъектам обязанности по отношению к нему (Петражицкий, 2000: 126‒128). С позиций коммуникативной концепции права субъект права – это активный деятель, обладающий необходимым интеллектуальным уровнем, чтобы понять логический смысл нормы и «проговорить» его для Другого, способный реализовывать ценностно-интеллектуальные акты признания текстов в качестве правовых, обладающий правовой волей, способный соотносить свое поведение с требованиями правовых норм и реализующий их во взаимоотношениях с другими участниками коммуникации2.
Анализ научной литературы, посвященной трансгуманистическим преобразованиям, позволяет полагать, что взрослые люди, прошедшие преобразования программно-аппаратными средствами, отнюдь не подобны малолетним детям, нуждающимся в активных действиях взрослых для восполнения их отсутствующей дееспособности. Наоборот, их физическая и (или) ментальная активность повышена, они готовы и способны взаимодействовать с окружающими в обществе, основные характеристики которого также могут меняться в зависимости от возможных и допускаемых преобразований людей. Это представляется серьезным вызовом для всех отраслей научного знания и для общества в целом, поскольку в зависимости от объемов и целей соответствующих преобразований человеческих существ принципиальное сохранение жизни на Земле может быть поставлено под вопрос3.
Полагаем, что если подойти к формулированию категории субъекта права с позиций юридического позитивизма, то подпадание в нее людей, перенесших преобразования программно-аппаратными средствами, представляется возможным, независимо от того, каковы были характер и цель соответствующих преобразований. То есть, соответствующие люди могут быть признаны субъектами права, если это будет закреплено законодателем. При этом, помимо их фактического отличия от людей как биосоциодуховных существ, которое может наложить отпечаток на восприятие ими действительности и вступление в общественные отношения (данный аспект подробнее рассмотрен ниже), возникает следующее соображение. Несмотря на существующий в настоящее время общеправовой принцип равенства людей, стоит вспомнить о том, что категория правосубъектности носит исторический характер, поддается историческим колебаниям. В разные периоды истории не все люди признавались правосубъектными либо их правосубъектность считалась различной (например, раб как говорящая вещь в Древнем Риме; имевшие место различия в правосубъектности крестьян и дворян в царской России)1. Таким образом, гипотетически не исключена ситуация признания на некоем этапе исторического развития различной правосубъектности за людьми, не перенесшими преобразования их тел программно-аппаратными средствами, и перенесшими таковые. При этом на данном этапе общественного времени невозможно предсказать, каким людям из этих двух категорий будет предоставлен больший объем правосубъектности, что не исключает возникновения проблем, обозначенных в подстрочной ссылке № 11, что поставит под существенную угрозу сохранение на Земле жизни людей как биосоциодуховных существ.
Представляется возможным и отношение к людям, прошедшим преобразования программно-аппаратными средствами, как к субъектам права с позиций психологической концепции права Л.И. Петражицкого, если у иных субъектов возникла соответствующая правовая императивно-атрибутивная эмоция, в рамках которой они занимают такое положение. Последствия ее возникновения могут быть схожими указанным выше последствиям признания таковых людей правосубъектными с позиций правового позитивизма.
Если все же рассматривать категорию правосубъектности с учетом сложившегося и закрепившегося под влиянием глобальных катаклизмов XX века общеправового принципа равенства людей, представляется, что возникнут сложности при фактическом вступлении людей, прошедших преобразования программно-аппаратными средствами, в правовые отношения, поэтому полагаем, что проблемы отнесения их к категории субъектов права наиболее репрезентативно могут быть показаны с позиций коммуникативно-правового подхода.
Подход к субъекту права как к участнику правовой коммуникации, то есть наделенному сознанием и волей носителю предметно-практической деятельности и познания в правовой сфере, обозначен выше. Полагаем, что таковым субъектом может быть только взрослый, граждански зрелый человек, что категории его право- и дееспособности, как элементы его правосубъектности, наличествуют в единстве2 (см., в частности: Петрова, 2024: 245).
С учетом изложенного полагаем, что критерием разделения возможности признания правосубъектности за людьми, подвергшимися преобразованиям с использованием программно-аппаратных средств, должен выступать факт отсутствия дополнения либо замещения деятельности головного мозга, следовательно, и сознания человека соответствующими программно-аппаратными средствами.
Так, в случае тех преобразований, в результате которых интеллектуально-волевая и эмоциональная регуляция поведения человека не изменяется, осуществляется за счет деятельности его головного мозга, такой человек, как и в существующей системе координат правовой науки, бесспорно является субъектом права. Например, в ситуациях бионического протезирования или ношения экзоскелета указанные технические средства не влияют на деятельность головного мозга своего пользователя, а лишь дополняют эффективность его организма в необходимых целях.
Иного подхода требуют ситуации, когда программно-аппаратные средства вторгаются в мозг человека, создается интерфейс «мозг – компьютер» либо мозг человека полностью замещается программно-аппаратными средствами.
Следует отметить, что мозг, как центр личности, представляет собой главный объект амбиций трансгуманистов (Барышников, 2013: 208).
Допуская возможность трансгуманистических преобразований, предполагающих возможность доработки мозга программно-аппаратными средствами либо создание искусственного мозга, переноса личности на альтернативный носитель, можно отметить, что «в пространстве технонауки любая живая форма воспринимается как набор данных. Человек не что иное, как одна из форм среди прочих» (Барышников, 2013: 215). В свете возможностей переброски сознания на альтернативный носитель констатируется, что «если работа мозга – лишь результат нейронных исчислений, то при возможности моделирования нанообъектов мы сможем перебрать весь физический субстрат личности и сознания до последней составляющей и создать искусственный носитель сознательных актов» (Барышников, 2013: 212).
Развивая последнюю мысль, полагаем целесообразным отметить, что две последние научные революции принесли миру две метафоры: 1) сравнение деятельности головного мозга человека с вычислительными операциями компьютерного процессора; 2) возможность молекулярного конструирования. Именно из этих двух идей рождается теория сильного искусственного интеллекта (далее – ИИ), направление когнитивного натурализма, отсюда же берут начало проекты по кибернетическому бессмертию1 (Барышников, 2013: 212).
В прикладных аспектах методологии ИИ особое внимание уделяется не ментальным содержаниям или проблемам интенциональности, а воспроизведению функций материального субстрата – мозга. Поэтому в этой сфере речь пока еще идет о так называемых масштабах исчис-лений2 (Барышников, 2013: 213).
При этом в части функционирования технических средств, дополняющих либо замещающих деятельность мозга человека в свете возможных трансгуманистических преобразований, представляется значимым следующее замечание.
Специфическим свойством любого цифрового устройства является представление сигналов в виде последовательности чисел с ограниченной разрядностью. Сигналы, которыми оперируют цифровые устройства, являются квантованными по уровню. Это означает, что уровни этих сигналов могут принимать лишь счетное множество значений . Разумеется, в наши дни существуют разработки в области нечеткой логики и ее использования в нейросетевых процессах, но в теории множеств мы можем задавать лишь диапазон критериев истинности. То есть квадратных скобок ([...]) с определенной системой значений нам не избежать. Человеческое сознание каким-то образом преодолевает этот барьер3 (Барышников, 2013: 223).
В свою очередь, с позиций современной философской науки в свете «информационных представлений душа человека – креативный, творческий компонент психики, равный виртуальной реальности программ индивидуальной жизнедеятельности и субъективного духовного мира личности» (Игнатьев, 2010: 123‒124). С учетом изложенного душа представляется свойством человека, программно-аппаратные комплексы, реализующие технологии ИИ, ею не обладают.
Таким образом, представляется логичным вывод о том, что интеллектуально-волевая и эмоциональная координация поведения людей, мозг которых дополнен программно-аппаратными средствами, осуществляется не только за счет деятельности их мозга, но и дополняется за счет работы соответствующего вживленного устройства, как было указано выше, обрабатывающего информацию с использованием математической системы с ограниченной разрядностью. В свою очередь, в настоящее время признается, что важной чертой субъективной реальности конкретного индивида является свободная воля, которая присуща конкретной личности, самостоятельно и осознанно определяющей цели своей деятельности, являющаяся свойством человека как биосоциодуховного существа. Кроме того, человек обладает свойством нелогичности, находящей отражение в страстях, искусстве, религии, отличающей человеческое естество от технологических произведений (Жолобова, Счастливцева, 2019: 19), и способной проявиться во всех сферах жизнедеятельности людей, в том числе в правовой. С учетом изложенного в случае доработки человеческого мозга программно-аппаратными средствами сохранение у него подлинно присущих людям сознания и воли, а также способности к совершению характерных для человека актов признания может быть поставлено под вопрос. Особенно остро эта проблема выявляется в случае переноса личности на альтернативный носитель, поскольку, исходя из существующих технологических представлений, выгруженное на него человеческое сознание будет функционировать на основе некой электронно-вычислительной машины, работающей на основе квантованных сигналов. Таким образом, представляется обоснованным риск превращения такого человека в бесчувственное существо, стирания грани между ним и механическим объектом (Жолобова, Счастливцева, 2019: 19).
Можно предположить, что потенциальная возможность широкого применения технологий доработки мозга человека программно-аппаратными средствами, а также переноса личности на альтернативный носитель, порождающая кибернетическое бессмертие, помимо потенциальной пользы несла бы ряд рисков негативных последствий.
Во-первых, принимая во внимание возможность высокой стоимости данных технологий, особенно в начале практик их реализации, могло бы иметь место разделение населения Земли на тех, кто располагает возможностью к ним прибегнуть, и тех, у кого такая возможность отсутствует, условно говоря, «людей второго сорта», которые по параметрам функциональности своих организмов будут заведомо уступать первым. Указанное ставит под угрозу общеправовой принцип равенства людей в существующем понимании.
Во-вторых, следует признать, что подлинная человеческая идентичность как биосоциодуховных существ, представителей рода Homo sapiens , у людей, дополнивших свой мозг программно-аппаратными средствами, и у систем, опосредующих перенос личности на альтернативный носитель, утрачивается. Представляется справедливым поставленный П.Н. Барышниковым вопрос: «Сохранится ли у постчеловека свобода выбора?» или для регуляции его поведения потребуется создание программируемой этики , что потребует пересмотра основных принципов исторического развития человечества (Барышников, 2013: 224). В любом случае, способы регуляции поведения членов общества при наличии возможности соответствующих трансгуманистических преобразований, потребуют пересмотра, поскольку люди после трансгуманистических преобразований мозга не будут тождественны современным людям как биосоциодуховным существам, и для регуляции технического компонента их личности потребуются иные средства1.
В-третьих, в отношении возможностей переноса личности на альтернативный носитель следует отметить, что применительно к соответствующим системам можно говорить об утрате человеческой идентичности, поскольку сознание умирающего человека загружается в программно-аппаратный комплекс, и даже если (в отдаленном будущем) существование соответствующего сознания будет продолжено в искусственном теле, максимально приближенном по своим параметрам к человеческому, его деятельность будет управляться программно-аппаратным комплексом, работающим на квантованных сигналах. С учетом изложенного вопрос о возможности данных систем в полной мере репродуцировать личность умершего, воспроизводить его познавательные способности, чувства, эмоции, на которые он был способен в период жизни в первоначальном биологическом теле, может быть поставлен под вопрос, что поставит под вопрос и тождественность качества жизни в подлинном биологическом теле и в системе, заменяющей его для целей кибернетического бессмертия. Более того, реализация соответствующих технологий приведет к необходимости поиска новых целей и смыслов человеческого существования, поскольку в том или ином виде откроется перспектива бессмертия человека, потребуется пересмотр основных философских категорий, а также ряда правовых институтов, в частности, опосредующих наследственные правоотношения. В практическом плане перспективы реализации идей кибернетического бессмертия могли бы привести к перенаселению Земли за счет киборгов.
В-четвертых, не исключается возможность как умышленного, так и случайного выхода из-под контроля технологий, опосредующих дополнение мозга человека программно-аппаратными средствами и перенос личности на альтернативный носитель. Особую опасность это представляет в свете недобросовестного использования данных технологий в военных целях, диверсий либо несчастных случаев на производствах. Развитие соответствующих негативных сценариев может поставить под угрозу сохранение жизни на Земле как таковое.
Заключение. С учетом взгляда на субъект права с позиций коммуникативной концепции права как на носителя предметно-практической деятельности и познания в правовой сфере, способного к эмоциональным, ценностно-интеллектуальным актам признания, которые в существу- ющей реальности присущи человеку, полагаем, что говорить о признании равной правосубъектности за людьми после трансгуманистических преобразований, предполагающих дополнение мозга программно-аппаратными средствами и перенос личности на альтернативный носитель, и за людьми, чья природа не изменена таким образом, некорректно. В свою очередь, после глобальных катаклизмов XX столетия постановка вопроса о различной правосубъектности людей в зависимости от подобных исходных критериев сущности конкретного человека (например, состояние здоровья, в т. ч. его доработка программно-аппаратными средствами, возраст, этническая принадлежность) в отличие от критериев достигнутого статуса (например, для получения определенной должности введен некий образовательный ценз) представляется противоречащей общеправовому принципу равенства людей.
В научной литературе высказаны как взгляды на трансгуманистические преобразования, предполагающие полное преобразование человека средствами научно-технического прогресса ( постгуманизм ) (Белялетдинов, 2013: 229), так и позиция, согласно которой « трансгуманизм не следует отождествлять с постгуманизмом , предполагающим полный отказ от человека вплоть до разрыва разума и телесности. Напротив, трансгуманистическая концепция строится вокруг улучшения природных задатков человека и в этом смысле противоречит традиционной задаче медицины лишь в том, что предлагает использовать медицинские технологии шире, нежели просто восстановление здоровья» (Белялетдинов, 2013: 230).
Полагаем, что с учетом возможных указанных выше рисков вплоть до угрозы уничтожения жизни на Земле проведение научно-технических разработок, направленных на обеспечение возможности радикальных преобразований человека постгуманистического характера, должно быть ограничено. С учетом изложенного постановка гипотетического вопроса о правосубъектности таких людей также не потребуется.
Список литературы К вопросу о перспективах правосубъектности человека в свете идей трансгуманистических преобразований
- Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 2004. 469 с.
- Аршинов В.И. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистические преобразования в контексте парадигмы сложности // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция / под ред. проф. Д.И. Дубровского. М., 2013. С. 94-106.
- Аршинов В.И. Конвергентные технологии в контексте постнеклассической парадигмы сложности // Сложность. Разум. Постнеклассика. 2015. № 3. С. 42-54. https://doi.org/10.12737/13564.
- Аршинов В.И., Буданов В.Г. Парадигма сложности и социогуманитарные проекции конвергентных технологий // Вопросы философии. 2016. № 1. С. 59-70.
- Барышников П.Н. Типология бессмертия в теоретическом поле французского трансгуманизма // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция / под ред. проф. Д.И. Дубровского. М., 2013. С. 203-227.
- Белялетдинов Р.Р. Человек трансгуманистического периода: новые концепции человека в эпоху биотехнологий // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция / под ред. проф. Д.И. Дубровского. М., 2013. С. 228-236.
- Горохов В.Г., Декер М. Технологические риски как социальная проблема при разработке и внедрении интеллектуальных автономных роботов // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция / под ред. проф. Д.И. Дубровского. М., 2013. С. 82-93.
- Дёмин И.В. Гуманизм и трансгуманизм: проблема соотношения // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция / под ред. проф. Д.И. Дубровского. М., 2013. С. 193-202.
- Жолобова Ю.В., Счастливцева Е.А. Философское содержание трансгуманизма в контексте кризисности человеческой природы // Вестник Вятского государственного университета. 2019. № 2 (132). С. 14-22. https://doi.org/10.25730/VSU.7606.19.014.
- Игнатьев В.А. Душа и бессмертие (с позиций вненаучного и научного познания) // Игнатьев В.А. В поисках души и бессмертия. Работы разных лет (2005-2009). К 70-летию автора. Научное издание. М., 2010. С. 10-233.
- Ковба Д.М., Грибовод Е.Г. Теоретические аспекты феномена трансгуманизма: основные направления // Научный журнал «Дискурс-Пи». 2019. № 3 (36). С. 38-52. https://doi.org/10.24411/1817-9568-2019-10303.
- Луков В.А. Трансгуманизм // Знание. Понимание. Умение. 2017. № 1. С. 245-252. https://doi.org/10.17805/zpu.2017.1.20.
- Нестеров А.Ю. Трансгуманизм как идеология // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2014) : труды Международной научно-технической конференции / под ред. С.А. Прохорова. Самара, 2014. С. 493-496.
- Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / отв. ред. И.Ю. Козлихин, Ю.А. Сандулов. Репринт. изд. СПб., 2000. 608 с.
- Петрова А.И. К вопросу об уникальности человека как подлинного субъекта права // Право и практика. 2023. № 2. С. 11-19. https://doi.org/10.24412/2411-2275-2023-2-11-19.
- Петрова А.И. Человеческий эмбрион как потенциальный субъект права // Теория и практика общественного развития. 2024. № 5. С. 242-249. https://doi.Org/10.24158/tipor.2024.5.32.
- Поляков А.В. Перспективы развития российской философии права в контексте когнитивных исследований и нейро-научных данных // Российская юстиция. 2022. № 12. С. 30-42. https://doi.org/10.52433/01316761_2022_12_30.
- Сергеев С.Ф. Наука и технология XXI века. Коммуникации и НБИКС-конвергенция // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция / под ред. проф. Д.И. Дубровского. М., 2013. С. 158-168.
- Шершеневич Г.Ф. Избранное : в 6 т. / вступ. слово, сост. П.В. Крашенинникова. М., 2016. Т. 4. 752 с.