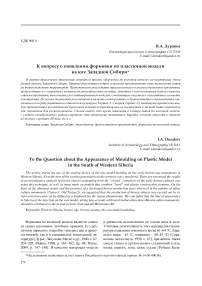К вопросу о появлении формовки по пластичной модели на юге Западной Сибири
Автор: Дураков И.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XXII, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье прослежено применение литейного приема «формовка по восковой модели» на памятниках эпохи ранней бронзы Западной Сибири. Впервые рассмотрен вопрос о времени проникновения этих технологий литья на вышеозначенную территорию. Представлены результаты трасологического анализа бронзовых предметов, происходящих из «закрытых» комплексов раннебронзовых культур, отлитых с использованием данного приема, а также предметов, выполненных по комбинированным моделям, сочетающим «жесткие» и пластичные элементы конструкции. На основе полученных результатов и наличия следов развитого бронзолитейного производства, отмечаемого на ряде памятников одиновской культуры (Тартас-1, Старый Тартас-5), выдвинуто предположение, что производство исследованных бронзовых изделий осуществлялось єє носителями и может быть определено как эпохальное для региона явление. Сделан вывод, что время появления в Сибири литья по восковой модели, с учетом калиброванных радиоуглеродных дат одиновских памятников Барабы, следует отнести к периоду не позднее середины III тыс. до н.э.
Западная сибирь, эпоха бронзы, бронзолитейное производство, формовка по восковой модели
Короткий адрес: https://sciup.org/14522368
IDR: 14522368 | УДК: 903.5
Текст научной статьи К вопросу о появлении формовки по пластичной модели на юге Западной Сибири
Формовка по восковой модели является одним из самых изученных литейных приемов. Его различные варианты подробно описаны как в археологической, так и в специальной технической литературе [Лурье, Ляпунова, Матье и др., 1940, с. 87, 204–205; Mohen, 1990, p. 161–162, fig. 48; Davey, 2009, p. 147–148]. В качестве материала модели в древности использовали не только воск и сало. Учитывая легкоплавкость этих материалов (температура плавления пчелиного воска 61–64 °С, бараньего жира – 45 °С, говяжьего – 40–45 °С) [Справочник металлиста, 1959, с. 67], применяли также смеси глины и органических соединений (сала, воска, шерсти, льна, сажи, сусла) [Рубцов, Бала- бин, Воробьев, 1959, с. 266–267]. Поэтому такой способ правильнее было бы назвать литьем по пластичной модели.
Случаи нахождения обломков форм, полученных по пластичной модели единичны, поэтому их применение в древних производствах прослеживается чаще всего по косвенным признакам: следам лепки, подрезки и заглаживания пластичного материала, перешедшими на отливку [Davey, 2009, p. 147–148].
Возникновение данного вида литья предположительно связывают с иранским нагорьем и датируют временем ранее IV в. до н.э. [Davey, 2009, p. 152]. В Месопотамии использование пластичных моделей прослежено несколько позже – в начале 3 тыс. до н.э. [Penniman, 1975, p. 144; Mille, 2006], в это же время они появляются в северной Индии [Marshall, 1931, p. 345; Krishnan, 1976] и Южной Европе [Davey, 2009, p. 153]. Египетское производство знало восковые модели минимум с начала периода Древнего царства [Garland, Bannister, 1927, p. 39–54].
Вопрос о времени проникновение этих технологий литья в Северную Азию до последнего времени не рассматривался. Однако находки целой серии отлитых по пластичным моделям предметов, происходящих из «закрытых» комплексов раннебронзовых культур Западной Сибири, позволяют обратиться к этой проблеме.
Наибольший интерес представляет массивный наконечник копья, найденный в погребении № 24 одиновской культуры могильника Преображенка-6 [Молодин, 2013, с. 310–313, рис. 3, 4]. Изделие относится к разряду КД-8 сейминско-турбинских вильчатых наконечников копий. Отливка носит явные следы формовки по восковой модели в виде перешедших на нее следов лепки и деформации пластичного материала, прослеживающихся на ребрах же стко сти «вилки» пера и петельке у о снования втулки. Наличие хорошо сохранившихся литейных швов указывает на то, что модель была извлекаемой, а форма предназначалась к многократному использованию.
В составе коллекции сейминско-турбинских бронз Центральной Барабы встречаются изделия, выполненные по комбинированным моделям, сочетающим «жесткие» и пластичные элементы конструкции. Как правило, пластичные детали дополняют, усложняют или усовершенствуют «жесткую» модель, в качестве которой часто используется ранее выполненная отливка иногда со следами использования или поломки. Примером такого изделия может служить кельт из Старого Тар- таса-1 [Молодин, Дураков, Софейков и др., 2012, с. 227–228].
Его форма была изготовлена по комбинированной модели: ее основной корпус представлял собой кельт сейминско-турбинского типа разряда К-4, на который были налеплены тонкие жгуты пластичного материала, вероятнее всего воска. На получение рельефа именно таким способом указывают перепады его толщины и глубины в местах расплющивания жгутов при их прикреплении к поверхности модели, а также характерные утолщения при наложении концов жгутов друг на друга.
Литье по выплавляемым или выжигаемым моделям с потерей формы также было известно, но применяло сь очень ограниченно. Например, таким способом изготовлены две спиралевидные бронзовые серьги из погребения могильника Абрамово-11, три бронзовые и пять золотых серег из захоронений № 208, 278, 285, 287 могильника Сопка-2 [Молодин, 2012, с. 164–165, рис. 79, 3–5 , 183, 3–5 , 229, 1–8 ]. Судя по сохранившимся следам, стерженьки этого типа серег отливались по пластичным моделям в неразъемных формах. На использование такой техники указывают перепады толщины стерженьков, обычно образующиеся при раскатывании пластичной массы в тонкий жгут, и отсутствие литейных швов. Этот способ изготовления, видимо, был достаточно эффективен, так как просуществовал очень длительное время и встречается в материалах последующей кротовской культуры [Молодин, Дураков, 2013, с. 92, рис. 7, 2–5 ; 13, 2 ].
Наличие следов развитого бронзолитейного производства, отмечаемого на ряде памятников одиновской культуры (Тартас-1, Старый Тар-тас-5) [Молодин, Новикова, Гришин и др., 2006, с. 425–426; Молодин, Мыльникова, Нестерова и др., 2013], позволяет утверждать, что производство вышеописанных изделий осуществлялось ее носителями и может быть определено как эпохальное для региона явление.
Таким образом, время появления в Сибири литья по восковой модели, с учетом калиброванных радиоуглеродных дат одиновских памятников Барабы, следует отнести к периоду не позднее середины III тыс. до н.э. Одиновским литейщикам были известны оба основных типа такого литья: по выплавляемой либо выжигаемой модели с потерей формы и по извлекаемой модели с сохранением формы. Однако основной сферой применения пластичных моделей было получение разъемных форм, видимо, в силу серийного характера производства.
Список литературы К вопросу о появлении формовки по пластичной модели на юге Западной Сибири
- Лурье И.М., Ляпунова К.С., Матье М.Э., Пиотровский Б.Б., Флиттнер Н.Д. Очерки по истории техники Древнего Востока. -М.; Л.: АН СССР, 1940. -352 с.
- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. 3: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской културы. -219 с.
- Молодин В.И. Сейминско-турбинские бронзы в «закрытых» комплексах одиновской культуры (Барабинская лесостепь)//Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -С. 309-324.
- Молодин В.И., Дураков И. А. Погребения эпохи ранней -развитой бронзы могильника Ордынское-1 (новая версия историко-культурной интерпретации)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 4 (56). -С. 84-101.
- Молодин В.И., Дураков И.А., Софейков О.В., Ненахов Д.А. Бронзовый кельт турбинского типа из центральной Барабы//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. XVIII. -С. 226-230.
- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М. С., Ненахов Д.А. Поселение одиновской культуры Старый Тартас-5//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 282-287.
- Молодин В.И., Новикова О.И., Гришин А.Е., Гаркуша Ю.Н., Марченко Ж.В., Рыбина Е.В., Пилипенко А.С., Лабецкий В.П. Изучение памятника эпохи развитой бронзы Тартас-1//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. -Т. XII. -С. 422-427.
- Молодин В.И., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Наглер А., Кобелева Л.С., Дураков И. А., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Нестерова М. С., Ненахов Д. А., Ковыршина Ю.Н., Мосечкина Н.Н., Васильева Ю.А. Археологические исследования могильника Тартас-1 в 2011 году. Основные результаты//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -Т. XVII. -С. 206-211.
- Рубцов Н.Н., Балабин В.В., Воробьёв М.И. Литейные формы. -М.: Машгиз, 1959. -557 с.
- Справочник металлиста. -М.: Машгиз, 1959. -Т. 3. -560 с.
- Davey C.J. The early history of lost-wax casting//Metallurgy and Civilisation: Eurasia and Beyond. -London: Archetype Publ., 2009. -P. 147-154.
- Garland H., Bannister C.O. Ancient Egyptian Metallurgy. -London: Charles Griffiths & Co Ltd, 1927. -214 p.
- Krishnan M.V. Cire Perdue Casting in India. -New Delhi: Kanak Publications, 1976. -100 p.
- Marshall J. Mohenjo-daro and the Indus Civilization. -London: Arthur Probsthain, 1931. -Vol. 1. -730 p.
- Mille B. On the origin of lost-wax casting and alloying in the Indo-Iranian world//Metallurgy and Civilisation: 6th International Conference on the Beginnings of the Use of Metals and Alloys. -Beijing: Univ. of Science and Technology, 2006.
- Mohen J.P. Metallurgie prehistorique: Introduction a la paleometallurgie. -Paris: Wasson, 1990. -230 p.
- Penniman T.K. A note on specimens in the Pitt Rivers Museum illustrating cire perdue casting//Notes on the Prehistoric Metallurgy of Copper and Bronze in the Old World. -Oxford: Oxford Univ. Press. 1975. -P. 143-148.