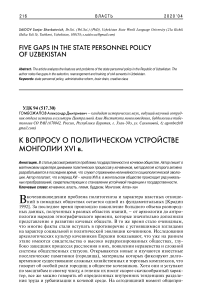К вопросу о политическом устройстве Монголии XVI в
Автор: Гомбожапов Александр Дмитриевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема государственности в кочевом обществе. Автор пишет о маятниковом характере динамики политических процессов у кочевников, методология которого активно разрабатывается в последнее время, что служит отражением нелинейности социополитической эволюции. Автор полагает, что в период XVI - начала XVII в. в монгольском обществе происходит ряд уникальных преобразований, свидетельствующих о становлении устойчивой тенденции к государственности.
Кочевники, власть, племя, буддизм, монголия, алтан-хан
Короткий адрес: https://sciup.org/170171397
IDR: 170171397 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v28i4.7464
Текст научной статьи К вопросу о политическом устройстве Монголии XVI в
Вкочевниковедении проблема политогенеза и характера властных отношений в номадных обществах остается одной из фундаментальных [Крадин 1992]. За последнее время произошло накопление большого объема разнородных данных, полученных в разных областях знаний, – от археологии до антропологии народов этнографического времени, которые значительно дополнили представление о развитии кочевых обществ. В то же время стало очевидным, что многие факты стали вступать в противоречие с устоявшимися взглядами на характер социальной и политической эволюции кочевников. Исследования археологических культур кочевников Евразии показывают, что уже на раннем этапе имеются свидетельства о высоко иерархизированных обществах, глубоко зашедших процессах расслоения в них, появлении неравенства и сложной системы общественных статусов. Открываются новые и изучаются известные поселенческие памятники (городища), материалы которых фиксируют долговременное существование сложных хозяйственных и торговых комплексов, что говорит об особой роли городищ в обществе кочевников. Хотя они и уступают по масштабам и своему числу, а генезис их носит скорее скачкообразный характер, все же можно говорить об определенных внутренних тенденциях разделения труда и урбанизации в кочевой среде. На сегодняшний момент общепри- знанным является утверждение о ключевом участии кочевников в формировании мир-системных связей Средневековья. Вместе с тем очевидным является и то, что уровень политической сложности кочевых обществ не был постоянным. Говорить о необратимости политических процессов и устойчивости политических образований у кочевников не приходится. Наряду с примерами структурного усложнения и формирования обширных кочевых империй на евразийском пространстве существуют факты откатов к децентрализованному эгалитарному обществу.
Такой маятниковый характер динамики политических процессов у кочевников, методология которого активно разрабатывается в последнее время, служит прекрасным отражением нелинейности социополитической эволюции.
Классическая схема Э. Сервиса рассматривает эволюцию общественнополитической организации как постепенное развитие от локальной группы к племени, далее – к вождеству и от него – переход к государству [Service 1962]. Согласно современным трактовкам эволюции государственности, существует множество альтернативных путей политогенеза. Кроме того, отсутствует понятие однозначной прогрессирующей линии в развитии политической организации обществ. «На протяжении своей истории общества (включая архаические культуры) оказываются способными радикально изменять модели социальнополитической организации, трансформируясь из гомоархических в гетероархи-ческие и наоборот» [Бондаренко, Гринин, Коротаев 2006: 18].
С точки зрения обнаружения таких радикальных смен и борьбы противоположных тенденций история Монголии периода XV – начала XVII в. представляется весьма интересным и благодатным полем для исследования.
После поражения в 1368 г. от повстанческих войск во главе с Чжу Юаньчжэном последний юаньский император Тогон-Тэмур был вынужден покинуть Пекин и бежать вместе со всем двором на север. Утрата экономической основы монгольского государства неизбежно сказалась и на характере властных отношений. Ресурсы и возможности для поддержки центральной власти были сильно ограничены. К тому же шла постоянная борьба внутри монгольской элиты, в ходе которой происходила частая смена правителей на великоханском престоле. Власть ханов становилась более слабой и компромиссной. Если контроль и управление в восточной Монголии еще сохранялись, то в более отдаленных западных регионах местные правители стали выходить из подчинения [Златкин 1983].
При номинальной власти общемонгольских ханов – прямых потомков Чингисхана – реальная власть стала принадлежать ойратским лидерам, поддержку которым стал оказывать минский Китай. Военное противостояние ойратов (западных) и восточных монголов пошатнуло сложившуюся политическую традицию наследования великоханского престола представителями «золотого рода» Чингизидов. Успешная попытка узурпации власти была предпринята ойратским тайши Эсеном, правда, правление его было скоротечным. Помимо этого, о своих правах на ханскую власть объявили владетельные князья боковой ветви Чингисхана [Почекаев 2017].
В ходе междоусобных войн единственным выжившим потомком по прямой линии Чингисхана остался малолетний Бату-Мункэ, будущий всемонгольский правитель Даян-хан (1479–1543). С его именем связано возрождение единого монгольского государства. За короткий срок ему удалось подчинить все монгольские племена. Власть хотя и в значительной степени держалась на военной силе, но в то же время выгоды от организационного единства во взаимоотношениях с Китаем удерживали племенную аристократию в рамках одной политической системы. Эта система во многом повторяла политическое устройство степных империй Евразии и была выстроена по принципу военно-административного деления населения, а именно деления на левое и правое крылья. Еще в период своего правления Даян-хан разделил восточных монголов на 6 туменов, поставив во главе каждого из них своих сыновей. Тумены чахар, халха и урян-хай, составлявшие левое крыло, находились в прямом подчинении у Даян-хана, в то время как правым (тумены ордос, тумэты и юншиэбу, включая племена асуд и хорчин) управлял сначала его второй сын Улусболд, затем, после восстания этих туменов, третий – Барс Болод с титулом джинонга. При этом ойрат-ские тумены возглавлялись собственными тайшами [Скрынникова 1986; Okada 1972; Miyawaki 1984].
После Даян-хана в Монголии вновь усилились тенденции к децентрализации власти. На этот раз верховная власть находилась в руках лишь его потомков, и борьба разгорелась среди них. Эта неустойчивость к распаду централизованной политической системы, созданной Даян-ханом, говорит о непреодоленных серьезных барьерах традиций родового общества и узкоплеменных интересов.
Известно, что родство и генеалогическое происхождение играли важную роль как в социальной, так и в политической организации кочевников. Они служили основным механизмом, через который либо шли процессы объединения путем вертикальной иерархизации, либо моделировались путем заключения равноправных союзов. В родоплеменном принципе социальной организации изначально заложена узость его применения, которая четко фиксирует пределы его распространения рамками родственных племенных общностей и групп. В случае кочевых обществ, создававших масштабные потестарно-политические объединения, расширение его действия было возможным за счет включения иноплеменных общностей в общую генеалогию с правящим племенем с созданием на этой основе крупной надплеменной структуры. Как пишет Хазанов, «родство только до известной степени определяет даже общую конфигурацию основанных на нем обществ, оставляя значительную свободу для конкретных форм социополитической организации» [Хазанов 2008: 170]. В то же время достаточно гибкий генеалогический принцип на практике, не размывая племенную идентичность, предоставляет входящим в политию племенам свободу во внутренних делах при строгом исполнении прежде всего воинской повинности. И это было постоянным препятствием на пути к организации кочевого общества вне племенных рамок и, соответственно, более устойчивой политической власти. Территориальные связи у номадов никогда не могли занять доминирующее положение. «Кочевникам отнюдь не чуждо представление о принадлежности территории тому или иному объединению. Специфика заключается лишь в том, что территориальные связи в их обществах обычно не проявляются в чистом виде, а опосредствованы и реализованы в отношениях родства (или псевдородства). Очевидно, сама подвижность кочевников ограничивает развитие непосредственных территориальных и соседских связей, тем самым делая родство наилучшей альтернативой для выражения социальных отношений» [Хазанов 2008: 170]. Однако это означало, что перед правителями время от времени возникала угроза племенного сепаратизма.
Применительно к указанному периоду стоит обратить пристальное внимание на историческое событие, позволяющее говорить о дальнейшей эволюции политической системы монгольского общества в сторону зрелой государственности. Речь идет распространении буддизма в Монголии. Буддизм как религия был знаком еще протомонгольским общностям (хунну, сяньби), в его тибетской форме он стал распространяться среди монгольских племен в период правления великого хана Хубилая. По его приглашению в Пекин прибыл глава школы сакья пагба лама. Буддизм был объявлен государственной религией империи
Юань, в которую входила и Монголия. Будучи воспринят правящей верхушкой и распространившись в аристократической среде, буддизм не смог укорениться в обществе в целом, и с падением династии традиции шаманизма вновь стали превалировать.
Более широкое распространение и окончательное утверждение буддизма в Монголии произошло во второй половине XVI в. В 1578 г. по приглашению тумэтского Алтан-хана на съезд монгольских князей прибыл тибетский духовный лидер Содном Чжамцо (Сонам Гьяцо), глава школы гелугпа. В ходе встречи Алтан-хан признал Сонам Гьяцо перерождением пагба ламы и присвоил ему титул далай-ламы. В свою очередь Сонам Гьяцо увидел в Алтан-хане реинкарнацию Хубилай-хана [Natsagdorji 1968]. Вскоре после этого события халхаский Абатай-хан (1534–1586), чахарский правитель Тумэн дзасакту хан (1539–1592) и ойратский Байбагас Батур нойон (1550–1640) приняли буддизм и начали его распространять в своих владениях с целью усиления своей власти путем консолидации населения на основе новой религиозной идентичности.
Возникает вопрос о причинах, сподвигнувших монгольских правителей принять буддизм самим и ревностно его распространять среди подвластного им населения. Как и в общем случае, речь идет о вопросах преодоления племенной разобщенности путем формирования новой религиозно-культурной идентичности. Тесный союз монгольских правителей и буддийского духовенства усиливал авторитет центральной власти. Буддизм, привнося новые духовно-ценностные ориентиры, становился важным фактором поддержки власти местных правителей, регламентируя социальные нормы и поведение.
До распространения буддизма легитимность монгольских правителей базировалась на праве наследования престола представителями династии Чингисхана. Господствовало воззрение о нераздельном династийном роде и общем совладении ханством всех его представителей, поэтому в каждом поколении происходило выделение уделов. Со временем правящий род значительно расширился, а принцип обязательного наделения продолжал действовать. Свои претензии на ханскую власть начинают предъявлять все большее число владетельных князей, или же они обретают все большую самостоятельность. В этом случае легитимация только принадлежностью к «золотому роду» теряет свое значение. Свидетельством тому служит появление большого числа званий и титулов в монгольской среде, в т.ч. и титула хана. Это хорошо видно на примере тумэтского Алтан-хана. Его отец Барс Болод был третьим сыном Даян-хана, что лишало его права претендовать на трон великого хана. Однако Алтан-хан благодаря своим способностям и таланту добился больших успехов, в т.ч. и при организации военных походов на минский Китай. Признанием его особого положения стало дарование ему в 1548 г. великим монгольским ханом Дайрасуном титула шитну-хана (малого хана) [Шара Туджи 1957: 148] . Алтан-хан стал проводить независимую внешнюю политику в отношении Китая. Его суверенный статус был подтвержден официально. По указу минского императора Алтан-хан возводился в степень шунь-и-вана [Покотилов 1893: 194], что, несомненно, добавляло ему престижа. И все же формально он оставался на вторых позициях в общемонгольском мире.
Обращение к буддизму предоставляло возможность формировать новую основу легитимности. Надо заметить, что первая попытка использовать буддизм в вопросе легитимации своей власти, а следовательно нарушения монополии Чингизидов на верховную власть, была предпринята еще в XV в. ойратским Эсэн-ханом [Elverskog 2011: 206]. Алтан-хан хоть и принадлежал к линии правящего рода, но права наследовать трон великого хана, как уже было сказано, у него не было.
Здесь стоит задаться вопросом, насколько принятие буддизма Алтан-ханом было сопряжено с действительной трансформацией кочевого общества на пути к обретению подлинной централизованной власти. Не было ли это очередным поверхностным явлением, как это было в случае с распространением буддизма в юаньский период? Как известно, позиции шаманизма в монгольском обществе были очень сильны, следовательно, отсутствовала какая-то религиозно-идеологическая основа для объединения кочевников, разделенных по родоплеменному признаку. Однако, как следует из обнародованного вскоре после встречи Алтан-хана и Содном Чжамцо уложения «Арбан буяны цааз» («Закон, обладающий десятью добродетелями»), были приняты законы, которые кардинально изменили традиционные шаманские представления и частично – нормы обычного права [Янгутов 2012]. «Если впоследствии в XVI в. между Алтан-ханом и далай-ламой Содном Джамцо был заключен договор о запрещении шаманства и распространении ламаизма, то между Хубилаем и Пагба-ламой не было и речи о запрещении шаманства. Монгольский хаган только соглашался на распространение ламаизма среди его подданных» [Далай 1983: 176].
Примечателен также в уложении «Арбан буяны цааз» один из главных пунктов – о запрещении всякого убийства. Это весьма важный пункт, который показывает усиление государственных тенденций. Одним из важнейших признаков присутствия государственной власти является его прерогатива на отправление правосудия. Государство обеспечивает правопорядок, изымая право возмездия у своего населения и возлагая его на себя. Нельзя сказать, что в монгольском обществе XV в. существовал в полной мере обычай кровной мести. Власть, безусловно, ограничивала его действие, но на основе закона «эквивалентности возмездия». С распространением буддизма монгольские правители получили возможность искоренить этот древний правовой институт, а значит обеспечить свое место в жизни общества.
Таким образом, в отношении монгольского мира периода XVI – начала XVII в. мы можем говорить, что ряд событий, связанных с распространением буддизма, очевидным образом свидетельствуют о качественно новых тенденциях в развитии государственности.
Статья подготовлена в рамках реализации проекта XII.191.1.2. «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии», номер госрегистрации № АААА-А17- 117021310264-4.
Список литературы К вопросу о политическом устройстве Монголии XVI в
- Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2006. Альтернативы социальной эволюции. - Раннее государство, его альтернативы и аналоги: сборник статей (под ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева). Волгоград: Учитель. С. 15-36
- Далай Ч. Монголия в XIII-XIV веках. 1983. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы. 232 с
- Златкин И.Я. 1983. История Джунгарского ханства. М.: Наука. 355 с
- Крадин Н.Н. 1992. Кочевые общества (проблемы формационной характеристики). Владивосток: Дальнаука. 239 с
- Покотилов Д.З. 1893. История восточных монголов в период династии Мин. 1368-1634 (по китайским источникам). СПб: Тип. Императорской Академии Наук. 242 с