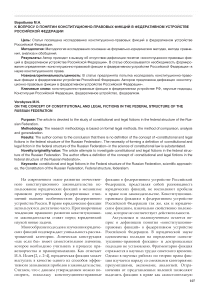К вопросу о понятии конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации
Автор: Воробьева Марина Николаевна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 5 (48), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель: Статья посвящена исследованию конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации. Методология: Методология исследования основана на формально-юридических методах, методе сравнения, анализа и обобщения. Результаты: Автор приходит к выводу об отсутствии дефиниции понятия «конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации». В статье обосновывается необходимость формирования определения «конституционно-правовой фикции в федеративном устройстве Российской Федерации» в науке конституционного права. Новизна/оригинальность/ценность: В статье предпринята попытка исследовать конституционно-правовые фикции в федеративном устройстве Российской Федерации. Автором предложена дефиниция «конституционно-правовые фикции в федеративном устройстве Российской Федерации».
Конституционно-правовые фикции в федеративном устройстве рф, научные подходы, конституция российской федерации, федеративное устройство, федерализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140250430
IDR: 140250430
Текст научной статьи К вопросу о понятии конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации
На современном этапе развития отечественного конституционного законодательства использование юридических фикций в механизме правового регулирования федеративных отношений вызвано особенностями федеративного устройства России. В праве юридические фикции используются достаточно часто. Противоречивые тенденции правового развития конституционного законодательства ставят перед юридической наукой новые задачи.
Многообразие подходов к изучению юридических фикций подтверждает уникальность рассматриваемой категории. Логическая конструкция «как если бы» имеет самостоятельное значение, которое необходимо учитывать в процессе правотворчества и правоприменения. Как отмечает И.А. Исаев [2, с. 2–4], юридическая фикция может выступать в качестве одного из способов эффективного заполнения пробелов в законодательстве. Считаем, что с данным утверждением можно поспорить, поскольку конституционно-правовые фикции в федеративном устройстве Российской Федерации, представляя собой разновидность юридических фикций, не восполняют пробелы в праве или законодательстве. Конституционноправовым фикциям в федеративном устройстве Российской Федерации так же, как и юридическим фикциям, изначально свойственно положение, которое не соответствует действительности.
Актуальным и малоизученным остается вопрос о дефиниции понятия «конституционноправовых фикций» в федеративном устройстве Российской Федерации. В юридической науке однозначных взглядов на определение «конституционно-правовой фикции» и доктринальных подходов не установлено. Фрагментарно фикция отражается в научных трудах советского времени. Однако в научных работах по теории права фикция изучается наряду со смежными категориями: презумпциями, аксиомами, аналогией. Отграничения от представленных явлений позволяют выделить фикцию в праве как самостоятельную правовую категорию, наделенную особыми признаками. Безусловно, изучение этимологии фикции имеет существенное смысловое значение для ее исследования в конституционном праве.
На основе анализа научных работ и теоретических взглядов на определение юридических фикций выделим следующие допустимые, на наш взгляд, подходы к изучению конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации: «общенаучный» [5, с. 355], «классический (традиционный)» [7, с. 216], «нормативный» [1, с. 199], «фикция как юридический факт» [3, с. 5–9].
В результате анализа вышеуказанных научных подходов к исследованию конституционноправовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации ни одного допустимого подхода не установлено.
Во-первых, фикция имеет латинское происхождение («fictio» означает выдумку, вымысел, несуществующее, ложное). Она выражается преимущественно с помощью конструкций «как бы», «как если бы», «допустим», «эквивалентно», «считается» и прочее. Однако общенаучный подход, сформированный на основе этимологии категории «фикция», не раскрывает отраслевого значения конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации, не обозначает особенностей, не выделяет отличительных признаков конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации от юридических фикций.
Во-вторых, классический подход, исследующий юридическую фикцию как прием (средство, способ) юридической техники, не раскрывает значения конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации. Классический подход позволяет выявить основные признаки фикции, отграничить их от смежных юридических конструкций, определить ее место в праве. Благодаря приему юридической техники фикция приобретает признак нормативности, иначе она находилась бы вне пределов правого поля и рассматривалась лишь как общенаучная категория. Без категории вымысла сложно признать несуществующее положение в качестве существующего, создать правовую модель абстракции и тем самым способствовать развитию права в целом.
В-третьих, нормативный подход к определению конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации также не применим к исследованию «конституционноправовых фикций в федеративном устройстве
Российской Федерации», поскольку отождествление фикции с правовой нормой означает признание ее как правила поведения, тогда как «каждая норма определяет правило поведения в неразрывной связи с условиями ее реализации и мерами принуждения к соблюдению, связи этих определений (элементов, атрибутов) правовой нормы образуют ее структуру: «если – то – иначе» [6, c. 371].
Невозможно не отметить, что конституционно-правовая норма, являясь первичным элементом отрасли конституционного права, регулирует общественные отношения в области государственного устройства, а также установления и защиты основных прав и свобод личности. Специфика конституционно-правовых норм заключается в источниках их выражения (в основном Конституция), их учредительном характере, особом механизме их реализации, особенностях структуры (в основном – отсутствие санкции). Отождествление конституционно-правовых фикций с нормой права создает неустойчивые конституционные основы федеративного устройства, что не приемлемо для Российской Федерации.
В-четвертых, концепция «юридического факта» к конституционно-правовым фикциям в федеративном устройстве Российской Федерации также не применима, поскольку достаточно сложно с уверенностью поставить знак тождества между двумя правовыми категориями. Юридическая фикция не является жизненным обстоятельством, с которым нормы позитивного права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Юридическая фикция, в отличие от юридического факта, представляет собой искусственную конструкцию условной реальности и тем самым подменяет понятие юридического факта. Однако юридический факт не является искусственной конструкцией, а представляет проявление реальной действительности. Юридическая фикция признает юридический факт, но не в качестве реального, а в качестве факта-сведения, знания, не обладающего достоверностью, однако принятого за достоверное в силу закона. Признание юридической силы не вступившего в законную силу международного договора, наделение правами и свободами иностранных граждан, признание территорий посольств и консульств в иностранных государствах территорией России, признание морского, речного и воздушного судов территорией России независимо от места нахождения в морском, речном и воздушном пространстве обеспечивается рассматриваемой юридической конструкцией.
В работе Ю.В. Кима [4] о самостоятельной природе фикций в конституционном праве Российской Федерации детально определены сферы применения фикций в конституционном праве Российской Федерации: вопросы федерализма, суверенитета, демократии, конституционализма, разделения властей, отсутствие единого научного подхода к пониманию «государства». Однако особенности конституционно-правовых фикций, их признаки и значение специально не исследуются.
В результате анализа вышеперечисленных научных подходов приходим к выводу, что они отражают различные проявления фикций в праве и только в совокупности могут раскрывать ее уникальность. Кроме того, вышеперечисленные подходы не решают проблему дефиниции понятия «конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации».
Ни один из предложенных подходов не разъясняет, например, использования конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве РФ в п. 1 ст. 8 ФКЗ от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», которые упрощают процедуру принятия нового субъекта в состав Российской Федерации, допуская юридическую силу не вступившего международного договора на основании решения Конституционного Суда Российской Федерации. В результате указанный международный договор вносится в Государственную Думу на ратификацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации».
Вместе с тем из другого примера конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 7 ФКЗ от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» о правопреемстве в отношении членства иностранного государства в международных организациях, его имущественных активов и пассивов, следует тесная взаимосвязь конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве РФ с юридическими фикциями. Поскольку институт правопреемства, представляя собой юридическую фикцию, также допускает переход прав и обязанностей от одного субъекта Российской Федерации к другому, тем самым декларативноабстрактный характер, условность конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации позволяют, как приему юридической техники, решать различные правовые казусы.
На основе анализа вышеизложенных научных подходов попытаемся предложить решение проблемы дефиниции понятия «конституционно-правовая фикция в федеративном устройстве Российской Федерации».
«Конституционно-правовая фикция в федеративном устройстве Российской Федерации представляет собой средство юридической техники, посредством которого намеренно созданное не соответствующее действительности положение признается соответствующим с целью вызвать или не допустить наступления определенных юридических последствий в федеративном устройстве Российской Федерации».
Список литературы К вопросу о понятии конституционно-правовых фикций в федеративном устройстве Российской Федерации
- Воробьева М.Н. Основные подходы к определению правовой природы фикции // Вестник Алтайской Академии экономики и права. Барнаул, 2015. Вып. 4. № 42.
- Душакова Л.А. Правовые фикции: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004.
- Исаев И.А. Юридическая фикция как форма заполнения правовых пробелов // История государства и права. 2011. № 22.
- Ишигилов И.Л. Понятие юридических фикций // Сибирский юридический вестник. 2007. № 1.
- Ким Ю.В. Фикции в конституционном праве: происхождение, сущность, значение. Кемерово, 2014.
- Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2004.
- Марченко М.Н. Теория государства и права: курс лекций. М., 1996.
- Танимов О.В. Юридические фикции и проблемы их применения в информационном праве: дис. … канд. юрид. наук. Саранск, 2004.