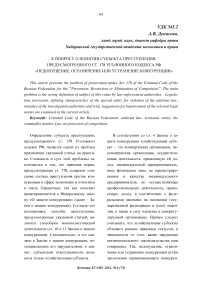К вопросу о понятии субъекта преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса РФ «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»
Автор: Денисова А.В.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы юриспруденции
Статья в выпуске: 6, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме привлечения к уголовной ответственности по ст. 178 Уголовного кодекса РФ за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Суть проблемы заключается в неправильном определении правоохранительными органами субъекта этого преступления. В статье рассматриваются положения законодательства, определяющие признаки специального субъекта за нарушение антимонопольного законодательства, ошибки органов следствия и суда, приводятся предложения по совершенствованию соответствующих правовых норм.
Уголовный кодекс рф, антимонопольное законодательство, хозяйствующий субъект, товарный рынок, закон о защите конкуренции
Короткий адрес: https://sciup.org/14319293
IDR: 14319293
Текст научной статьи К вопросу о понятии субъекта преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса РФ «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»
Определение субъекта преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса РФ, является одной из проблем применения указанной статьи на практике. Сложность и суть этой проблемы заключаются в том, что правовая норма, предусмотренная ст. 178, содержит описание состава преступления против конкуренции в сфере экономики и относится к числу бланкетных, так как отсылает правоприменителя к Федеральному закону «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции). Согласно его положениям, способы преступления, предусмотренные указанной статьей, являются способами монополистической деятельности (ст. 10 и 11 Закона о защите конкуренции). Следовательно, и это сказано в Законе о защите конкуренции, потенциальными его нарушителями, а значит, субъектами ответственности являются только хозяйствующие субъекты.
В соответствии со ст. 4 Закона о защите конкуренции хозяйствующий субъект – это коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегу-лируемой организации. Причем следует учитывать, что хозяйствующие субъекты обладают разным правовым статусом, в зависимости от того, какие нарушения антимонопольного законодательства ими совершены. Так, недопущение, ограничение или устранение конкуренции путём заключения ограничивающего конкурен- цию соглашения (картеля) могут быть совершены хозяйствующими субъектами-конкурентами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке и не входящими в одну группу лиц, то есть хозяйствующие субъекты не должны осуществлять контроль в отношении других юридических лиц, а также хозяйствующие субъекты не должны находиться под контролем одного лица (п. 7 ст. 11 Закона о защите конкуренции). Здесь для определения статуса хозяйствующего субъекта необходимо решить ряд задач, связанных с пониманием того, что представляет собой товар, товарный рынок, группа лиц. Так, если хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность на разных товарных рынках, то они не являются конкурентами. Само понятие товарного рынка имеется в Законе о защите конкуренции, им является сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за её пределами (ст. 4). Из этого следует необходимость установления продуктовых, географических границ данного рынка [1].
Следующая задача – выяснение природы товара, под которым Закон о защите конкуренции понимает объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Принципиально важным является ответ на вопрос: относится ли товар к категории взаимозаменяемых или нет? Если товар первого хозяйствующего субъекта не может быть заменен на товар второго, то хозяйствующие субъекты не являются конкурентами.
Что касается понятия «группа лиц», наличие которой определяется по правилам ст. 9 Закона о защите конкуренции, то ею признаётся совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:
-
1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнёрство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнёрстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнёрства);
-
2) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнёрство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнёрства);
-
3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнёрство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое
физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнёрства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнёрством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнёрству) обязательные для исполнения указания;
-
4) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнёрство), в котором более чем 50 % количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;
-
5) хозяйственное общество (хозяйственное партнёрство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнёрства);
-
6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50 % количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;
-
7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновлённые), полнородные и неполнородные братья и сестры;
-
8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в перечисленных выше пунктах признаку входит в группу с
одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных выше пунктах признаку;
-
9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнёрство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в вышеперечисленных пунктах признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнёрстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнёрства).
Установление факта отнесения подозреваемых в картеле хозяйствующих субъектов к одной группе лиц исключает их ответственность за эти действия (п. 7 ст. 11 Закона о защите конкуренции).
Другие способы совершения преступления, заключающиеся в неоднократном злоупотреблении доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или уклонении от заключения договора, ограничении доступа на рынок могут быть совершены только хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке. Определение доминирующего положения – прерогатива антимоно- польных органов на основе ст. 5 Закона о защите конкуренции и в соответствии с Административным регламентом ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией [2].
Как правило, положение хозяйствующего субъекта признаётся доминирующим в том случае, когда его доля на рынке определённого товара превышает 50 %, ст. 5 предусмотрены и другие случаи признания положения на рынке доминирующим.
Всё вышеперечисленное отражает сложность антимонопольного регулирования, полномочия по которому находятся в поле деятельности антимонопольных органов. Из этого следует, что только антимонопольные органы могут определить статус хозяйствующего субъекта. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что субъект уголовной ответственности, по ст. 178 Уголовного кодекса РФ, специальный, его признаки содержатся в антимонопольном законодательстве, а их установление – сфера деятельности антимонопольных органов.
В частности, субъектом недопущения, ограничения или устранения конкуренции являются:
-
1) индивидуальные предприниматели;
-
2) руководители, иные представители юридического лица, действующие от его имени и в его интересах;
-
3) физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, но осуществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегу-лируемой организации, при условии, что перечисленные лица относятся, в зависимости от инкриминируемого деяния, либо к хозяйствующим субъектам-конкурентам (представителям юридического лица), либо к хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке (представителям юридического лица). Как неоднократно отмечалось в научной литературе, применение ст. 178 Уголовного кодекса РФ на практике происходит редко. Несмотря на громкие заявления руководства ФАС России о большом количестве возбуждённых уголовных дел в период с 200 г. по 2013 г. по выявленным картелям, нет ни одного дела, по которому бы состоялся обвинительный приговор.
Те единичные дела, приговоры по которым отражает статистика, были возбуждены правоохранительными органами, как правило, без участия антимонопольных органов. И, строго говоря, систематический анализ этих приговоров не позволяет говорить о том, что таким образом ведётся борьба с антиконкурентным поведением хозяйствующих субъектов. Более того, исследование содержания приговоров позволяет сделать вывод о наличии ошибок при привлечении к уголовной ответственности по ст. 178 Уголовного кодекса РФ, которые выражаются в неправильном определении субъекта этого преступления. Как уже отмечалось выше, субъект рассматриваемого преступления – специальный, его признаки содержатся в Законе о защите конкуренции и других нормативных правовых актах. Лица, не обладающие признаками специального субъекта, должны нести ответственность как организаторы, пособники или подстрекатели в соответствии со ст. 33 и 34 Уголовного кодекса РФ. Так, в 2008 г. в Фрунзенский районный суд г. Иваново поступило уголовное дело по обвинению П., Д., С., К. по ряду статей, в том числе и по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса РФ (в редакции от 8 декабря 2003 г.). Перечисленным лицам вменялось в вину ограничение и устранение конкуренции путём ограничения доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической деятельности, повлекшее причинение крупного ущерба, совершённое с уничтожением и повреждением чужого имущества, совершённое организованной группой. П., Д., С., К., из которых только Д. являлся индивидуальным предпринимателем в сфере междугородних пассажирских перевозок, совершали поджоги автобусов, принадлежащих другим индивидуальным предпринимателям, которые осуществляли свою деятельность в той же области, что и Д. Однако суд, постановляя приговор, верно отметил в нём, что «субъектом преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса РФ может являться только хозяйствующий субъект... Действия П., организовавшего указанное преступление, и С. и К., непосредственно участвовавших в совершении данного преступления, которые не являются специальными субъектами ограничения и устранения конкуренции, подлежат квалификации по ст. 33 и 178 ч. 3 Уголовного кодекса РФ, первый как организатор, остальные как пособники» [3].
К сожалению, такие ошибки правоприменителей не являются редкими. Иногда и суды неверно определяют признаки специального субъекта преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса РФ.
Так, в 2009 г. состоялся обвинительный приговор в отношении З., К., С., Т., Г. по обвинению их в совершении ряда преступлений, а также в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 178 УК РФ, которое было ими совершено при следующих обстоятельствах. З., являясь руководителем Управления по технологическому и экологическому контролю Ростехнадзора одного из субъектов Российской Федерации, создал юридическое лицо, которое должно было занять доминирующее положение на рынке экспертизы промышленной безопасности. Используя свои служебные полномочия, З. давал подчинённым ему работникам указания принуждать предприятия заключать договоры на проведение экспертизы промышленной безопасности только с созданным им юридическим лицом, угрожая разными неблагоприятными последствиями, а также разными способами препятствовать доступу на рынок экспертизы промышленной безопасности другим хозяйствующим субъектам. Кроме этого, З.
пытался не допустить конкуренцию созданному им юридическому лицу со стороны других хозяйствующих субъектов путём физической расправы с руководителем одного из этих хозяйствующих субъектов. Для этого З. привлёк К., С., Т. и Г., которые совершили убийство. Одним из доказательств достижения 3. своей цели является заключение УФАС России, в котором сказано о неразвитости конкуренции на рынке экспертизы промышленной безопасности в данном субъекте Российской Федерации и о наличии здесь доминирующего положения созданного З. юридического лица, состоящего в группе с другим хозяйствующим субъектом, руководитель которого находился в сговоре с З.
Во время расследования уголовного дела и вынесения приговора ст. 178 Уголовного кодекса РФ действовала в редакции от 8 декабря 2003 г., когда субъектом преступления являлись и должностные лица органов власти, поэтому З. как руководитель территориального Управления федерального органа исполнительной власти был признан субъектом преступления и осуждён по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса РФ, совершенного им с использованием своего служебного положения. Обращают внимание другие факты, имеющие отношение к К., С., Т. и Г., которые так же, как и З. были осуждены, кроме всего прочего, по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса РФ. При этом в приговоре нет данных о том, что эти лица являлись хозяйствующими субъектами или их представителями. Если статусу З. как должностного лица дана правовая оценка, то в отношении статуса К., С., Т. и Г. вообще нет никакой информации. Указанные лица выполняли разные поручения криминальной направленности, исходящие от З. [4]. Поэтому есть все основания полагать, что К., С., Т. и Г. были осуждены по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса РФ без законных на то оснований. Проблема такой правоприменительной практики видится в первую очередь в несовершенстве законодательства, а именно в отсутствии в ст. 178 Уголовного кодекса РФ указания на специальный субъект преступления, определение признаков которого невозможно без участия антимонопольного органа. Её решение может заключаться в двух вариантах:
-
1) внести в примечание к ст. 178 Уголовного кодекса РФ дополнение, в котором определить, кто является субъектом этого преступления (по примеру того, как это есть в примечании к ст. 285 Уголовного кодекса РФ, где дано описание должностного лица как субъекта преступления);
-
2) внести в ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнение, в котором указать, что поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 178 Уголовного кодекса РФ являются только материалы антимонопольных органов, которые направлены ими в соответствии с законодательством о защите конкуренции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Однако, несмотря на то, что именно антимонопольные органы имеют все полномочия по определению признаков субъекта нарушения антимонопольного законодательства, в практике возникают случаи, когда и антимонопольные органы неверно дают оценку статусу хозяйствующего субъекта, неправомерно привлекая его к ответственности.
Так, в 2012 г. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области было возбуждено дело по признакам нарушения адвокатской палатой ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в действиях по координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, которые привели к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок. Признаки нарушения антимонопольный орган усмотрел в решении совета адвокатской палаты Ростовской области о минимальных тарифных ставках оплаты труда адвокатов за оказание юридических услуг (помощи) физическим и юридическим лицам, согласно которому адвокатам при определении размера гонорара при оказании правовой помощи рекомендовано пользоваться установленными в решении минимальными ставками оплаты юридической помощи. Данное решение было доведено до адвокатских образований и размещено на официальном сайте адвокатской палаты в разделе «Решения совета» без указания срока его действия. Антимонопольный орган счёл, что согласование адвокатской палатой действий её членов (адвокатов) по утверждению расценок за оказание ими юридической помощи клиентам приводит к ограничению возможности адвокатов и адвокатских образований конкурировать между собой по стоимости (цене) оказываемых услуг.
В связи с этими выводами, адвокатской палате выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путём размещения на официальном сайте адвокатской палаты информации о том, что минимальные тарифные ставки оплаты труда адвокатов за оказание юридической помощи не являются обязательными для применения. Адвокатская палата, не согласившись с решением антимонопольного органа, обжаловала его в суд. Спор прошёл несколько инстанций, решения всех судов были в пользу адвокатской палаты. В своих решениях суды указывали на следующее:
– адвокаты не являются хозяйствующими субъектами по смыслу п. 5 ст. 4 Закона о защите конкуренции, следовательно, они не могут выступать субъектами, деятельность которых может быть скоординирована в силу запрета, установленного ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции;
– внесение сведений об адвокате в региональный реестр адвокатов и выдача ему удостоверения осуществляются уже после приобретения субъектом статуса адвоката и права на осуществление адвокатской деятельности, вследствие чего в отличие от лицензии не имеют правообразующего значения и не рассматриваются законодателем в качестве основания осуществления адвокатской деятельности, являясь процедурой учёта, а не регистрации;
– адвокаты оказывают не услуги, а квалифицированную юридическую помощь, и их деятельность не является предпринимательской. Кроме этого, в соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно;
– действия по принятию решения о минимальных тарифных ставках оплаты труда адвокатов за оказание юридической помощи не могут квалифицироваться как действия по согласованию поведения её членов в процессе оказания юридической помощи, поскольку являются обобщением сложившейся у адвокатов Ростовской области гонорарной практики рекомендательного характера.
Высший Арбитражный Суд РФ, также определив, что внесение сведений в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации и выдача адвокатского удостоверения не являются государственной регистрацией в значении, придаваемом Гражданским кодексом РФ. вследствие чего управлением неверно определены хозяйствующие субъекты, в отношении которых осуществлялась координация экономической деятельности, подтвердил правомерность решений судов нижестоящих инстанций [5].
Таким образом, представляется, что практика применения и антимонопольного законодательства при привлечении виновных в его нарушении к административной ответственности и ст. 178 Уголовного кодекса РФ будут иметь случаи с неправильным определением статуса субъекта, а следовательно, незаконным привлечением к ответственности. В связи с этим деятельность правозащитных организаций, в первую очередь адвокатуры, может иметь важное значение в переломе этой ситуации.
Список литературы К вопросу о понятии субъекта преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса РФ «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»
- Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке: приказ ФАС России от 28.04.2010 г. № 220//http://pravo.gov.ru/.
- Об утверждении Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией: приказ ФАС от 17.01.2007 г.//http://pravo.gov.rii/.
- Приговор Фрунзенского районного суда г. Иваново//Архив Фрунзенского районного суда г. Иваново. Дело №1-143/2008.
- Приговор Самарского областного суда от 30.07.2009 г.//Архив Самарского областного суда. 2009 г.
- Постановление Президиума ВАС РФ от 3.12.2013 г. № 9122/13 по делу № А53-25904/2012//СПС «КонсультантПлюс».