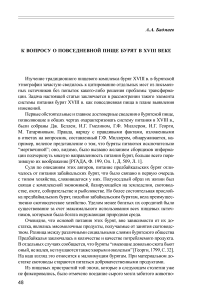К вопросу о повседневной пище бурят в XVIII веке
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521291
IDR: 14521291
Текст статьи К вопросу о повседневной пище бурят в XVIII веке
Изучение традиционного пищевого комплекса бурят XVIII в. в бурятской этнографии зачастую сводилось к цитированию отдельных мест из письменных источников без попыток какого-либо решения проблемы трансформации. Задача настоящей статьи заключается в рассмотрении такого элемента системы питания бурят XVIII в. как повседневная пища в плане выявления изменений.
Первые обстоятельные и главное достоверные сведения о бурятской пище, позволяющие в общих чертах охарактеризовать систему питания в XVIII в., были собраны Дж. Беллем, И.Г. Гмелином, Г.Ф. Миллером, И.Г. Георги, М. Татариновым. Правда, наряду с правдивыми фактами, изложенными в ответах на вопросник, составленный Г.Ф. Миллером, обнаруживается, например, нелепое представление о том, что буряты питаются исключительно “мертвечиной”; оно, видимо, было вызвано желанием сборщиков информации подчеркнуть мясную направленность питания бурят, больше всего поразившую их воображение [РГАДА, Ф. 199, Оп. 1, Д. 509, Л. 1].
Судя по описаниям этих авторов, питание предбайкальских бурят отличалось от питания забайкальских бурят, что было связано в первую очередь с типом хозяйства, сложившегося у них. Полуоседлый образ их жизни был связан с комплексной экономикой, базирующейся на земледелии, скотоводстве, охоте, собирательстве и рыболовстве. Но более состоятельная прослойка предбайкальских бурят, подобно забайкальским бурятам, вела преимущественно скотоводческое хозяйство. Уделом менее богатых их сородичей было существование за счет максимального использования всех пищевых источников, которыми была богата окружающая природная среда.
Очевидно, что основой питания этих бурят, вне зависимости от их достатка, являлись мясомолочные продукты, получаемые от занятия скотоводством. Разница между различными социальными слоями бурятского общества Предбайкалья заключалась в количестве и качестве потребляемого продукта. В отдельных случаях сообщается, что буряты “имеющие довольно скота бьют оный, не жалея, не гнушаются также хворым и околелым” [Георги, 1799, С. 32]. На наш взгляд это относится к малоимущим бурятам. При материальном достатке скотоводы стараются питаться доброкачественными продуктами.
Из пищевых пристрастий той эпохи, которые в следующем столетии уже не фиксировались, было отмечено поедание сырого мозга забитого животно- го (овцы). Как отголосок этого, возможно, следует рассматривать традицию угощения наиболее уважаемых гостей тоолэй – сваренной и опаленной головой овцы. Отмечается особая любовь бурят к жеребятине, которая и в более позднее время считалась деликатесным мясом. Среди мясных изысков были бараньи и козлиные яйца, употребление в пищу которых вызывалось верой в их способность повысить мужскую потенцию.
Из мяса диких животных, согласно источникам, в рационе использовалось, прежде всего, мясо крупных лесных парнокопытных – лосей и изюбров. Действовало, как и сегодня, пищевое избегание бурят относительно употребления мяса хищных птиц и зверей, за исключением, пожалуй, медвежатины. Трудно согласиться с выводом И.Г. Георги, когда он пишет, что буряты питались мясом всех не хищных птиц. По всей видимости, он не имел сведений о запрете охотиться на птиц, считавшихся тотемами отдельных родоплеменных групп бурят. Можно быть уверенным, что речь в данном случае идет о тех предбайкальских бурятах, кто был свободен от этих промысловых (соответственно пищевых) запретов.
Как и в последующем столетии при обработке продуктов и приготовлении блюд из мяса использовали термическую обработку – варку и обжарку (в том числе на рожне); для длительного хранения применяли сушку, вяление, копчение. Варка мяса, как пишет И.Г. Георги, производилась “обыкновенно все в одной воде, без соли и сала” [Георги, 1799, С. 33].
Аборигенная форма земледелия, сводившаяся к выращиванию в ограниченных объемах пшеницы, ржи, овса, проса и других растительных культур, позволяла предбайкальским бурятам иметь на столе продукты из муки и круп – саламат, разнообразные каши и пресные лепешки [Георги, 1799, С. 32]. В числе излюбленных мучных блюд была известна поджаренная крупа с маслом и сметаною, в передаче И.Г. Георги – куран. Можно предположить, что здесь имелся ввиду продукт, схожий с гурил, представляющий каленные дробленые зерна или муку, смешанные с маслом (сметаной). Дикоросы восполняли потребности в растительной пище, в сочинении все того же автора, например, перечислены коренья “простой и сибирской овсянки, белой сараны, сердечной травы, макаршино и макарьина корня, черноголовнику и других, которые они находят собраниями, большей частью в норах степных мышей” [Георги, 1799, С. 32].
Рыбные продукты, видимо, занимали незначительное место в пищевом рационе бурят. Как пишет И.Г. Георги, предбайкальские буряты “... рыбною ловлею занимаются, только в крайней нужде” [Георги, 1799, С. 29]. В отношении других бурят это распространялось еще в меньшей степени.
Важно, что авторы XVIII в. подмечают специфику питания хори-бурят как степных номадов, в пище которых главенствуют мясомолочные продукты, полученные от ведения скотоводческого хозяйства. Указывается преобладание в их летней пище кисломолочных продуктов, в зимней – мясных продуктов, творога и масла, заготовленных в летне-осенний период [Георги, 1799, С. 32].
Умолчание в трудах ученых и сочинителей той эпохи фактов употребления в пищу мяса диких животных и дикоросов не опровергает того, что на самом деле эти продукты издавна были включены в систему питания этих бурят.
Следует добавить, что в рассматриваемое время оставалось незыблемым ежегодное проведение у хори-бурят осенней облавной охоты аба-хайдак, в которой было задействовано почти все взрослое мужское население, и в результате которой каждая семья обеспечивалась мясом и шкурами диких животных.
Не ускользает от их внимания авторов XVIII в. отсутствие традиции приготовления и потребления хлебных и мучных изделий у данной группы бурят; но при этом известно присутствие в их рационе каш и похлебок из круп. Кроме этого, смеем предположить, что в XVIII в. собирательство играло весьма важную роль, хотя бы потому, что в XIX в. оно как источник растительной пищи не утратило своего значения.
Среди напитков, нашедших распространение у всех бурят, называются: чай, мясные бульоны, кислое молоко, простокваша, вода, березовый сок, как алкоголь содержащие – кумыс и молочное вино. Причем указаны как привозные плиточные чаи из Китая, так и представляющие сборы из местных трав: “Чай их есть так называемый кирпичный или сибирского багульника листья, также с шиповника, брусницы, бадану, или так называемого чагирского чаю, балгу, пятимышника каменного и кустоватого, каменного зверобою, а иногда и из коренья сердечной травы и черноголовнику” [Георги, 1799, С. 33]. Большой интерес вызывает тот факт, что подобно известному и поныне способу заваривания зеленого кирпичного чая в XVIII в. готовился чай на травяной или корневой основе с добавлением молока, масла, соли и поджаренной муки (замбаа). В ежедневном рационе бурят он иногда представлял основное блюдо. Сложно сказать, что было первично в бурятской кухне – зеленый чай или его заменитель. Позднее, в XIX в., современники поражались привычке бурят к питью зеленого чая, потребляемого, как им казалось, в неоправданно больших количествах. Например, в докладной записке начальника IV отдела I департамента Министерства государственного имущества Игренева об этом сообщается следующее: “… по мнению г. губернатора, главное зло не в том, что существует такая торговля и сбор, а в непреодолимой, страстной привычке к чаю самих инородцев. Привычка эта, общая впрочем, забайкальским обитателям низшего и даже среднего классов, происходя из местных обществ, основанных, быть, может, на требованиях самой природы, хотя и служит для бурят как бы необходимым предохранительным средством от болезней, развивающихся от исключительного употребления мясной жирной пищи, но за всем тем доходит между ними до ужасного, судя по количеству выпиваемого ими чая и издержкам на оный. Каждый семейный бурят, не включая самого бедного, потребляет его в год с женою, по крайней мере, до 12 кирпичей” [АНХ, Ф. 40, Д. 414, Л. 65]. Если же исходить из такого непреложного факта, что в последующем столетии практика приготовления 50
чая на основе трав и кореньев никем из исследователей и авторов сочинений о бурятах не фиксировалась, то можно говорить об исчезновении ее вследствие перехода основной массы бурят к завозному китайскому чаю, масштабы торговли которым резко возросли.
Упоминание, что домашнее вино курилось из кислого кобыльего молока (в документах первой половины XIX в. оно так и называлось “кумызка”), показывает, что в XIX в. в технологии его производства произошла окончательная замена сырья – кумыса (айрак) на простоквашу (хурэнгэ) из коровьего молока. Причиной этого, очевидно, было изменение состава домашнего стада забайкальских бурят, в котором сокращалась доля лошадей, и возрастала – крупного рогатого скота. Между тем, в изучаемое время предбайкальские буряты использовали для получения молочного вина простоквашу. Татаринов М. обращает внимание на присутствие в их пище главным образом коровьего молока, что было связано, по его мнению, со спецификой стада – “кобылья мало, ибо по множеству имеют коров” [РГАДА, Ф.24, Д.70, Л. 14].
Согласно Смолеву Я.С. буряты в XIX в. питались четырежды в течение суток в определенные часы, при этом пили в основном чай зутараан, речь о котором шла выше [Смолев, 1898, С. 24]. Примерно так же было и в предшествующем столетии, когда во время повседневных утренних и дневных трапез употреблялись молочные и растительные продукты, а вечерняя трапеза состояла из мясной пищи – отварного мяса или мясного супа с зерном.
Краткий обзор повседневного питания бурят XVIII в. позволяет утверждать, что в нем при всей статичности проведения трапез уже начали возникать определенные трансформации как в составе блюд и напитков, так и в их рецептуре, подталкиваемые изменениями в традиционной экономике.