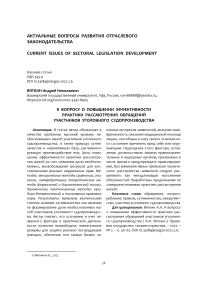К вопросу о повышении эффективности практики рассмотрения обращений участников уголовного судопроизводства
Автор: Вяткин Андрей Николаевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Актуальные вопросы развития отраслевого
Статья в выпуске: 2 (68), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье автор обозначает в качестве проблемы высокий уровень необоснованных жалоб участников уголовного судопроизводства, а также природу сутяжничества и нормативную базу, регламентирующую противодействие ему. Цель: повышение эффективности практики рассмотрения жалоб за счет снижения доли необоснованных, высвобождения ресурсов для восстановления реально нарушенных прав. Методы: эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и толкования правовых норм. Результаты: выявлена значительная степень влияния сутяжничества как явления на формирование доли необоснованных жалоб участников уголовного судопроизводства. Автор считает, что осознание и учет названного фактора в практической деятельности позволит высвободить значительные резервы для защиты реально пострадавших граждан, обеспечив тем самым баланс законных интересов заявителей, включая своевременность оказания медицинской помощи лицам, способным в силу своего психического состояния причинить вред себе или окружающим. Недооценку этого фактора, оставление должностными лицами правоохранительных и надзорных органов, призванных в числе прочего предупреждать правонарушения, без внимания явных признаков психического расстройства заявителя следует расценивать как ненадлежащее исполнение обязанностей. Выработаны предложения по совершенствованию практики рассмотрения жалоб.
Обращение, злоупотребление правом, сутяжничество, кверулянтство, участник уголовного судопроизводства
Короткий адрес: https://sciup.org/142235586
IDR: 142235586 | УДК: 340.12 | DOI: 10.33184/pravgos-2022.2.6
Текст научной статьи К вопросу о повышении эффективности практики рассмотрения обращений участников уголовного судопроизводства
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия, van‐, ‐0002‐3347‐8903
Bashkir State University, Ufa, Russia, van‐, ‐0002‐3347‐8903
Введение. Одним из признаков демокра‐ тического государства является возмож‐ ность беспрепятственного диалога между на‐ селением и представителями власти по лю‐ бым возникающим у инициатора вопросам. Порядок рассмотрения обращений норма‐ тивно регламентирован таким образом, что любое обращение не должно оставаться без внимания, тщательной и оперативной про‐ верки доводов о нарушениях закона, приня‐ тия исчерпывающих мер к их устранению.
Уголовно‐процессуальная сфера, обеспе‐ чивающая конституционные права граждан на доступ к правосудию, защиту от преступ‐ ных посягательств и в равной степени на за‐ щиту от незаконного уголовного преследо‐ fected citizens, thus ensuring a balance of the legitimate interests of the applicants, including the timeliness of medical assistance to persons who, due to their mental state, are capable of harming themselves or others. The underesti‐ mation of this factor, disregarding obvious signs of the applicant's mental disorder by law enforcement and supervisory officials, who are called upon, inter alia, to prevent offences should be regarded as improper performance of duties. Proposals are developed to improve the practice of considering complaints.
вания, в силу названных причин требует по‐ вышенного внимания и большей оператив‐ ности проверки доводов.
Возможность подачи обращения активно используется участниками уголовного судо‐ производства. Между тем доля удовлетво‐ ренных обращений из года в год остается стабильно низкой и не превышает 20 % от по‐ ступивших в органы прокуратуры Россий‐ ской Федерации и 10 % от поступивших в ор‐ ганы внутренних дел, на долю которых при‐ ходится основной массив таких обращений. Сопоставима с приведенными данными и доля удовлетворенных обращений в поряд‐ ке судебного контроля. Так, в 2021 г. органа‐ ми прокуратуры Республики Башкортостан из 14,5 тысяч обращений на досудебной ста‐ дии удовлетворено 2,8 тысяч1.
В ряде случаев решения должностных лиц об отказе в удовлетворении жалоб не отве‐ чают требованиям законности. Такие реше‐ ния обусловлены некомпетентностью, не‐ добросовестностью (отсутствием стремле‐ ния тщательно проверять доводы), ограни‐ ченностью ресурса (острой нехваткой време‐ ни) наряду с ненадлежащей организацией служебной деятельности.
Вместе с тем перечисленные причины в условиях ведомственного и судебного кон‐ троля, возможности последовательного об‐ жалования решений должностных лиц не являются определяющими в структуре от‐ клоненных обращений.
Многолетний опыт работы в органах прокуратуры позволяет утверждать, что большое количество обращений обусловле‐ но двумя основными причинами. Первая – неверная трактовка событий или требований закона. Вторая – заведомо необоснованные обращения, авторов которых можно услов‐ но разделить на две категории:
– злоупотребляющие правом на подачу обращения, руководимые исключительно стремлением навредить кому‐либо;
– неадекватно оценивающие ситуацию в силу психического заболевания (как диагно‐ стированного, так и ранее не выявленного).
Те и другие относятся к категории сутяж‐ ников; разница лишь в том, что первые под‐ лежат ответственности за их действия, вто‐ рые нуждаются в медицинской помощи.
Так, в органы прокуратуры Республики Башкортостан на протяжении ряда лет сис‐ тематически поступают заведомо необосно‐ ванные обращения Г., не согласного с дейст‐ виями и решениями должностных лиц, столь же последовательно констатирующих отсут‐ ствие признаков уголовно наказуемых дея‐ ний в описанных заявителем событиях. Ко‐ личество его обращений только за послед‐ ние три года превысило 2002; стиль изложе‐ ния позволяет высказать предположения о неадекватности автора.
Методы противодействия сутяжничест‐ ву. Сутяжничество как явление в России ис‐ следовано недостаточно. Сутяжника харак‐ теризует настойчивость, многократная по‐ вторяемость при очевидном отсутствии ра‐ зумных оснований к обращению.
Между тем заведомо необоснованные обращения отвлекают значительные силы и средства, призванные оперативно выявлять и устранять нарушения закона, посягающие на права иных заявителей. Для наглядности стоит привести аналогию: если 80 % вызовов скорой медицинской помощи, пожарных, спасателей будут ложными, в силу ограни‐ ченности ресурса время выезда к реально пострадавшим существенно возрастет, как и степень грозящей им опасности.
Ряд исследователей рассматривают про‐ блему сутяжничества как юридическую, дру‐ гие – как медицинскую [1, с. 190]. Обе требу‐ ют поиска способа решения.
В этой связи представляет интерес опыт борьбы с сутяжничеством и иными форма‐ ми злоупотребления правом во всех сфе‐ рах жизнедеятельности, в том числе зару‐ бежный.
В ряде стран на законодательном уров‐ не определены критерии сутяжничества, выявление которых не только служит осно‐ вой принятия конкретного решения, но и препятствует принятию к производству по‐ следующих обращений сутяжника; в неко‐ торых имеется прямой запрет на обраще‐ ние после пяти неудачных тяжб в течение семи лет3.
В России существует институт прекраще‐ ния переписки1. Однако применяется он в единичных случаях, на фоне значительной доли необоснованных обращений, в том числе серийных, что ставит под сомнение его эффективность. Так, в 2021 г. аппаратом про‐ куратуры Республики Башкортостан пере‐ писка прекращена лишь в трех случаях2.
Пунктом 2 ст. 16 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59‐ФЗ «О порядке рассмот‐ рения обращений граждан Российской Фе‐ дерации» предусмотрена возможность взы‐ скания в судебном порядке затрат, связан‐ ных с рассмотрением обращения, содержа‐ щего заведомо ложные сведения. Целесо‐ образно расширить практику разъяснения заявителям этой нормы, рассмотрев воз‐ можность ее применения в интересах реаль‐ но пострадавших граждан, жалобы которых находятся в производстве параллельно с за‐ ведомо необоснованными.
Заведомо ложное обращение с заявле‐ нием о преступлении в органы правоохраны влечет установленную ст. 306 УК РФ ответст‐ венность. Механизм доказывания заведомой необоснованности иных обращений (жалоб) считаем возможным применять по аналогии с заведомо ложным доносом, используя процедуру проведения проверки в рамках жалобы. В частности, на это могут указывать в объяснениях лица, права которых затраги‐ ваются в связи с подачей жалобы, либо иные лица, осведомленные об обстоятельствах, входящих в предмет проверки, обнаруже‐ ние опровергающих доводы заявителя до‐ кументов, с которыми он ранее был озна‐ комлен.
При установлении такой проверкой ис‐ тинной цели обращения, отличной от защи‐ ты нарушенных, непризнанных, оспаривае‐ мых прав, свобод или интересов, а состоя‐ щей в стремлении досадить, навредить сво‐ ему оппоненту либо должностным лицам, органам власти следует сделать вывод о на‐ личии признаков сутяжничества.
«Законодательство не содержит четкого определения злоупотребления правом на защиту, однако практика знает немало при‐ меров подобного поведения участников су‐ допроизводства. Необходимо искать пути решения данной проблемы», – отметил за‐ меститель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законода‐ тельству и государственному строительству М. Кавджарадзе, выступая на круглом столе, посвященном решению проблемы злоупот‐ ребления правом3.
Очевидно, что для разрешения медицин‐ ского аспекта сутяжничества необходимо участие специалиста. В какой форме – во‐ прос остается открытым.
Между тем психиатры относят сутяжни‐ чество к патологии, возникающей в резуль‐ тате травм или стрессов, приводящих к на‐ рушению работы мозга. По их утверждению, в тяжелых случаях у больных на фоне не‐ удачных разбирательств развивается бред сутяжничества, который включен в катего‐ рию хронических бредовых расстройств. Неудачи только подстегивают сутяг к новым жалобам, еще больше убеждая их в при‐ страстности должностных лиц и социальной несправедливости. В крайних ситуациях про‐ тесты и другие нецелесообразные сутяжные поступки могут сопровождаться агрессией и даже становиться социально опасными4.
Как утверждает клинический психолог А. Куренок, сутяжники (кверулянты) пред‐ ставляют собой очень неоднородную группу душевнобольных либо людей, имеющих своеобразную структуру личности, которые находятся на грани с нормой. Норму от па‐ тологии отличает несколько критериев. Во‐ первых, степень проявлений «правдолюбст‐ ва», являющегося внешней ширмой сутяж‐ ника. Во‐вторых, ее направленность. «На‐ стоящие» кверулянты слишком эгоцентрич‐ ны и захвачены своей идеей, чтобы думать о ком‐то еще. Они готовы отстаивать исключи‐ тельно свои собственные эгоистические ин‐ тересы [2, с. 527–607].
Названные факторы в контексте регист‐ рируемых в стране и мире актов агрессии с жертвами требуют повышенного внимания к психическому состоянию заявителя при рас‐ смотрении жалоб.
Учитывая, что, по общему правилу, пси‐ хиатрическая помощь оказывается при доб‐ ровольном обращении лица и при наличии его информированного добровольного со‐ гласия на медицинское вмешательство 1 , представляется, что при наличии внешних признаков упомянутого заболевания необ‐ ходимо незамедлительно инициировать доб‐ ровольное освидетельствование заявителя, отказ от которого наряду с иными обстоя‐ тельствами может указывать на патологию. К примеру, гражданину можно в тактичной форме рекомендовать пройти обследование в целях «проверки его способности правиль‐ но оценивать обстоятельства и давать им оценку», по аналогии с нормами уголовно‐ процессуального закона, предусматриваю‐ щими такую возможность в том числе для потерпевших2. Как мы знаем, такой прием использует ювенальная юстиция, когда при отсутствии объективных доказательств про‐ верка способности несовершеннолетнего правильно оценивать обстоятельства остро необходима [3]. В случае с сутяжником его доводы существуют лишь в воображении заявителя, и возможность придать им вес может стать стимулом к добровольному об‐ следованию.
В соответствии с п. «а» ст. 29 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185‐1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» основанием для недобровольного психиатрического освидетельствования слу‐ жит непосредственная опасность лица для себя или окружающих. В ряде случаев сутяж‐ ники демонстрируют такие признаки, выска‐ зывая угрозы и оскорбления как в текстах своих многократно повторяющихся обраще‐ ний, так и на устном приеме. Однако практика вызова психиатрической бригады в такой си‐ туации не столь распространена. Из сообра‐ жений тактичности либо в стремлении избе‐ жать дополнительного катализатора кон‐ фликта государственные служащие предпо‐ читают внешне спокойно выслушать сутяжни‐ ка и подготовить ответ, дублирующий ряд прежних, поскольку иного такие обращения и не предполагают.
Такой путь не решает проблемы, а лишь усиливает ее. Кроме того, оставление без внимания и реагирования выраженных сим‐ птомов заболевания при наличии опасности для сутяжника и окружающих может послу‐ жить условием беспрепятственного совер‐ шения им противоправных действий. Нахо‐ ждение на государственной службе обязы‐ вает прогнозировать подобное развитие си‐ туации и принимать исчерпывающие меры к его недопущению.
В соответствии с положениями ст. 33 упомянутого закона вопрос о госпитализа‐ ции в недобровольном порядке может быть инициирован представителем медицинской организации (в нашем случае – при достав‐ лении в нее психиатрической бригадой) либо прокурором.
Несмотря на высказываемые некоторы‐ ми авторами опасения в необоснованном расширении такой практики в целях госпита‐ лизации «неадекватных» граждан, она не по‐ лучила широкого распространения1.
Между тем в городах, привлекательных для психически больных, приезжающих с це‐ лью обращения в различные инстанции, их до‐ ля может достигать 20 % от общего числа больных, к которым вызывается психиатриче‐ ская бригада. Чаще всего бригаду вызывают члены семьи и близкие больных (примерно 40 %), реже – сотрудники органов внутренних дел (30 %), десятые доли процента составляют вызовы к больным, поступающие от случайных лиц. Практика показывает, что при наличии заведомо ложных вызовов предпочтителен их прием от должностных лиц2.
Изложенное подтверждает необходи‐ мость расширения практики вызова должно‐ стными лицами государственных, в том чис‐ ле правоохранительных органов, уполномо‐ ченных на проведение приема и рассмотре‐ ние сообщений, психиатрических бригад для последующего освидетельствования сутяж‐ ника. Требует расширения и практика ини‐ циирования такого освидетельствования про‐ курором, поскольку это необходимо для защиты прав самого заявителя и неопреде‐ ленного круга лиц, способных стать жертва‐ ми его агрессии.
Выводы. Статистика результатов рас‐ смотрения обращений участников уголовно‐ го судопроизводства свидетельствует о не‐ обходимости корректировки подходов к проблеме сутяжничества.
Сутяжничество представляет реальную опасность для общества, требует оказания психиатрической помощи в интересах заяви‐ теля и неопределенного круга лиц – его по‐ тенциальных жертв. Оставление должност‐ ными лицами правоохранительных органов без внимания проявлений психического рас‐ стройства заявителя, выразившихся в агрес‐ сии, оскорблениях и угрозах, неприемлемо, расценивается как бездействие и требует оценки с учетом последствий при после‐ дующем совершении заявителем правона‐ рушения, причиной или условием которого послужит развитие негативного сценария излагаемой в обращении ситуации, а также сами результаты его рассмотрения.
Эффективное решение проблемы сутяж‐ ничества не требует изменения законода‐ тельства. Необходима лишь корректировка ведомственных нормативных актов (прика‐ зов, инструкций). Решение проблемы сутяж‐ ничества вполне осуществимо, позволит вы‐ свободить ресурсы для защиты прав реально пострадавших граждан.
Список литературы К вопросу о повышении эффективности практики рассмотрения обращений участников уголовного судопроизводства
- Блейхер В.М. Толковый словарь психиатрических терминов: в 2 т. / В.М. Блейхер, И.В. Крук. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - Т. 2. - 448 с.
- Руководство по психиатрии: в 2 т. / Г.И. Коляскина, В.А. Концевой, Г.И. Копейко и др.; под ред. А.С. Тиганова. - Москва: Медицина, 1999. - Т. 2. - 721 с.
- Цымбал Е.И. Психолого-психиатрическая экспертиза малолетних потерпевших по делам о сексуальных преступлениях / Е.И. Цымбал, А.П. Дьяченко // Lex Russica. - 2017. - № 8. - С. 136-145.