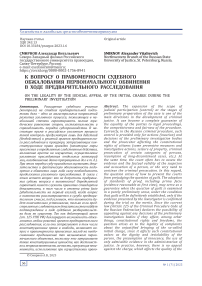К вопросу о правомерности судебного обжалования первоначального обвинения в ходе предварительного расследования
Автор: Смирнов Александр Витальевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Ходатайства и жалобы как средство обеспечения правосудия
Статья в выпуске: 1 (71), 2023 года.
Бесплатный доступ
Расширение судебного участия (контроля) на стадиях предварительной подготовки дела – одно из магистральных направлений развития уголовного процесса, позволяющее в наибольшей степени гарантировать полное юридическое равенство сторон, состязательность и справедливость порядка судопроизводства. В настоящее время в российском уголовном процессе такой контроль предусмотрен лишь для действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования и прокурора, затрагивающих конституционные права граждан (некоторые меры пресечения и определенные следственные действия, наложение ареста на имущество, осуществление уголовного преследования отдельных категорий лиц, возобновление давно прекращенных дел и т. д.). При этом нередко суду приходится оценивать доказательства и фактическую обоснованность подозрения и обвинения лица либо саму необходимость продолжения уголовного преследования. В связи с этим встает вопрос: как не допустить предрешения судами вопроса о виновности? Определенной гарантией может служить принятие стандартов доказанности, в том числе в степени prima facie (убедительности на первый взгляд), когда вопрос о виновности рассматривается в сугубо предварительном смысле, под условием, что виновность будет окончательно установлена, только если представленные следователем доказательства найдут подтверждение в ходе судебного разбирательства дела по существу. Так как действующий закон (ст. 125 УПК РФ) декларирует возможность обжалования любых решений органов предварительного расследования, если они затрагивают в том числе конституционные права и свободы, возникает вопрос о правомерности принесения жалоб на необоснованное предъявление так называемого первоначального обвинения, поскольку это затрагивает такие конституционные ценности, как достоинство и неприкосновенность личности, презумпция невиновности, использование при осуществлении правосудия лишь допустимых доказательств. Однако на практике обжалование предъявленного обвинения не допускается, что отрицательно сказывается на качестве предварительного расследования, законных интересах обвиняемых и нагрузке на суды первой инстанции. В целях предотвращения формирования у судей предвзятого мнения о виновности необходима специализация судей либо – в качестве наиболее радикальной меры – введение института следственных судей. Целью настоящего исследования является обоснование именно возможности судебного обжалования на стадии предварительного расследования первоначального обвинения. При этом использованы эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; формально-логический метод; частнонаучные методы: юридико-догматический и толкования правовых норм.
Предварительный судебный контроль, обжалование решений, первоначальное обвинение, стандарт доказанности prima facie, специализация судей
Короткий адрес: https://sciup.org/142237246
IDR: 142237246 | УДК: 343.13 | DOI: 10.33184/pravgos-2023.1.6
Текст научной статьи К вопросу о правомерности судебного обжалования первоначального обвинения в ходе предварительного расследования
Вопрос о возможности обжаловать в суде действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования и прокурора, а также о пределах такого обжалования является одной из болевых точек российского уголовного процесса, поскольку от его решения во многом зависит как объем реальных гарантий интересов непубличных участников процесса, так и сам тип последнего, а именно можно ли относить его к состязательной модели или нет, поскольку последняя предполагает судебное участие на всех стадиях судопроизводства.
Согласно положениям ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя и следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые могут причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районном суде по месту производства предварительного расследования.
В данной норме установлен критерий для определения предмета обжалования – способность действий (бездействия) и решений причинить ущерб конституционным правам и свободам либо затруднить доступ граждан к правосудию (что, собственно, тоже есть нарушение конституционного права каждого на судебную защиту, названного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). Вместе с тем Конституционным Судом РФ ранее, еще в период действия УПК РСФСР, был сформулирован несколько иной критерий. По мнению суда, право на обжалование возникает лишь в тех случаях, когда действиями и решениями следователя, прокурора и т. д. порождаются последствия, выходящие за рамки собственно уголовнопроцессуальных отношений и приводящие к нарушениям конституционных прав и свобод, которые уже не могут быть эффективно восстановлены в ходе последующего судебного контроля в ходе судебного разбирательства1. В качестве примера можно привести решения о производстве обыска, наложении ареста на имущество, продлении срока предваритель- ного следствия, приостановлении производства по делу, применении мер пресечения, об отказе в признании потерпевшим и т. д.
Как видим, законодатель в новом УПК существенно расширил критерий, сформулированный Конституционным Судом в период действия прежнего законодательства, предоставив участникам процесса право на обжалование в суде, невзирая на то, выходят ли последствия действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования и прокурора за пределы процессуальных отношений.
Сам по себе факт посягательства на конституционные права и свободы граждан представляется законодателю настолько важным, что требует немедленного реагирования со стороны суда, не ожидая момента, когда он приступит к рассмотрению дела по существу. Такой широкий подход полностью соответствует максимально широкому конституционному положению ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, устанавливающему, что решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде. Причем по буквальному смыслу данной конституционной нормы это любые решения и действия, ибо используемая в ряде иных положений Конституции ограничительная оговорка «в случаях, предусмотренных федеральным законом» здесь отсутствует.
Однако и после начала действия нового уголовно-процессуального закона Конституционный Суд РФ продолжил линию на ограничение предмета судебного обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. Так, он ввел дополнительный критерий, состоящий в том, что предметом обжалования не могут служить процессуальные акты органов дознания, следователей и прокуроров, разрешающие вопросы, которые позднее могут стать предметом судебного разбирательства уголовного дела по существу.
Контроль суда за обоснованностью первоначального обвинения
Характерным примером применения указанного критерия является вопрос о возможности обжалования в суде еще на стадии предварительного расследования постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. В ряде определений Конституционный Суд РФ сформулировал позицию, согласно которой это постановление не может быть предметом обжалования в части законности и обосно- ванности обвинения, а также достаточности положенных в его основу доказательств, объясняя такой вывод тем, что в ином случае суд предрешал бы по существу вопрос о виновности обвиняемого, что может пагубно повлиять на беспристрастность суда в будущем – при постановлении приговора2.
Однако насколько безупречен подобный подход? Для ответа на этот вопрос рассмотрим ряд аргументов contra.
Прежде чем обратиться к другим правовым позициям Конституционного Суда РФ и некоторых органов международной юстиции, имеющих к нему отношение, необходимо определиться с самим предметом исследования, а именно с характером решения о привлечении лица в качестве обвиняемого, в котором формулируется с точки зрения доктрины уголовного процесса так называемое первоначальное обвинение.
Первоначальным в уголовном процессе считается первое официальное обвинение, предъявляемое на предварительном следствии лицу, в отношении которого имеются достаточные доказательства его виновности в совершении преступления. Его необходимо отличать от окончательного обвинения, формируемого после допроса обвиняемого и проверки его доводов в свою защиту, если таковые имеются, а также с учетом вновь выявленных обстоятельств дела3. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого может быть вынесено лишь «при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления» (ч. 1 ст. 171 УПК РФ). Однако вопрос о том, что является критерием такой достаточности, в отечественной теории уголовного процесса остается открытым. Прежде всего, следует отметить, что в большинстве научных работ он рассматривается в основном с точки зрения предмета доказывания (установление события преступления, причастности лица, формы вины и т. д.), не затрагивая проблемы степени (стандарта) доказанности этих обстоятельств [1, с. 140–142; 2, с. 27; 3, с. 43; 4, с. 219].
Существует точка зрения, согласно которой доказательства, обосновывающие первоначальное обвинение, не обязательно должны обеспечивать достоверный вывод о виновности обвиняемого, поскольку на момент его выдвижения орган предварительного расследования еще не завершил процесс собирания, проверки и оценки доказательств, то есть такие доказательства дают только вероятностное знание [5, с. 105, 116]. Имеется и противоположный взгляд, согласно которому достаточными для первоначального обвинения будут лишь доказательства, которые приводят к достоверному выводу о виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица [6, с. 306–308; 7, с. 84, 85; 8, с. 78–90]. Данная проблема имеет непосредственное отношение к теме настоящего исследования, поскольку предоставлять стороне защиты право обжаловать лишь вероятностный вывод о виновности, оставляющий следователю определенный простор для проверки и других версий [9, с. 36]4, было бы, наверное, преждевременно. Напротив, достоверный вывод, отражающий убеждение следователя в виновности обвиняемого, в существенно большей степени опасен для последнего в силу своей однозначности, а потому предполагает наделение его и более эффективными средствами защиты, к числу которых относится, прежде всего, судебный контроль.
Более предпочтительной нам представляется позиция, согласно которой для предъявления обвинения необходимо основанное на доказательствах достоверное знание, формирующее убеждение следователя в виновности обвиняемого, то есть когда имеет место доказанность обвинения [10, c. 15]5. Привлечение лица в качестве обвиняемого в отсутствие такой убежденности противоречит требованию правовой определенности и принципу законности, поскольку тогда невозможно определить, до какого нижнего предела могут распространяться сомнения. Одна- ко специфика такой доказанности состоит в том, что она имеет первоначальную степень prima facie, то есть это доказанность «на первый взгляд». Другими словами, убеждение следователя основано на доказательствах, добытых пока только односторонне, самой стороной обвинения, хотя они и не оставляют следователю других легальных объяснений, кроме как вывод о виновности. При этом выражение «на первый взгляд» указывает здесь не на поверхностность или неточность результатов доказывания, а лишь на то, что это первый взгляд «по счету» лишь одной из сторон – следователя, сформировавшийся пока еще без учета мнения противоположной стороны. Доказательственная база для следователя здесь, по сути, полностью убедительна, но тем не менее объективно остается некое абстрактное сомнение – ввиду того, что еще не был заслушан обвиняемый, у которого есть на это непреложное право (принцип audiātur et altera pars – да будет выслушана и другая сторона). Лишь после заслушивания и проверки доводов обвиняемого в свою защиту (коль скоро они будут заявлены) объем собранных доказательств можно считать полным, обвинение окончательным, а убеждение в виновности не оставляющим никаких, даже абстрактных, сомнений6.
Посмотрим теперь, настолько ли убедительны аргументы о сугубо процессуальном значении акта привлечения в качестве обвиняемого, а также является ли на самом деле всеобъемлющим запрет на рассмотрение судом вопроса о виновности подозреваемого и обвиняемого на так называемых досудебных стадиях процесса. С этой целью обратимся к позициям высших судов.
Так, говоря об изначальном акте уголовного преследования – возбуждении уголовного дела7, Конституционный Суд РФ посчитал, что, если уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица, то это лицо приобретает статус подозреваемого, и этого обстоятельства достаточно для вывода о возможности причинения ущерба его конституционным правам и свободам, а потому и обжа- лования в суд законности и обоснованности данного решения в порядке ст. 125 УПК РФ. Судебный же контроль на последующих стадиях судопроизводства не является достаточным и эффективным средством восстановления его основных прав и свобод8. Однако этот вывод в полной мере распространим и на случаи, когда речь идет об обвиняемом. Выдвижение против лица первоначального обвинения, пребывание его в положении обвиняемого сопровождается возможностью применения к нему ряда мер процессуального принуждения, что связано с повышенным риском причинения ущерба его конституционным правам и свободам. Это достоинство и неприкосновенность личности, частной жизни, жилища, судебная защита, презумпция невиновности, использование при осуществлении правосудия лишь допустимых доказательств (ст. 21–25, 46, 49, 50 Конституции РФ). В уголовном судопроизводстве серьезные последствия, сопряженные с официальным выдвижением публичного обвинения (временное лишение свободы, отстранение от должности, ущерб чести, достоинству и деловой репутации и др.), могут сказаться для личности необратимым образом и простираться далеко за пределы уголовнопроцессуальных отношений. В силу этого баланс частных и публичных интересов склоняется здесь, на наш взгляд, в пользу частного интереса, состоящего в дозволении лицу заблаговременно, уже на сравнительно ранней стадии процесса, ставить перед судом вопрос о неправомерности привлечения его к уголовной ответственности.
Кроме того, Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно подтверждал, что именно на суде лежит обязанность оценки обоснованности подозрения о совершении лицом преступления, в связи с которым оно заключается под стражу9. Как подчеркивал в своих решениях Европейский суд по правам человека, одной из неотъемлемых гарантий от произвольного ареста или заключения под стражу является требование разумных оснований для подозрения, когда имеются факты или информация, убеждающие объективного наблюдателя в том, что подозреваемый мог совершить преступление10. Аналогичную позицию высказал и Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 Постановления от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации», где он так же предлагает судьям учитывать, что наличие обоснованного подозрения в том, что заключенное под стражу лицо совершило преступление, является необходимым условием для законности ареста11.
Таким образом, достаточная обоснованность подозрения в совершении лицом преступления является необходимым условием применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следовательно, изучение судом в связи с проверкой правомерности содержания под стражей и на основании данных, представленных органом предварительного расследования, вопроса о том, могло ли данное лицо совершить преступление, вполне возможно без ущерба для независимости и беспристрастности суда при вынесении им последующих решений, в том числе на судебных стадиях процесса.
Следует также напомнить, что действующий уголовно-процессуальный закон предписывает коллегии из трех судей рассматривать вопрос о правомерности привлечения в качестве обвиняемого Генерального прокурора и Председателя Следственного комитета РФ (п. 2 и 2¹ ч. 1 ст. 448 УПК РФ). То есть проверка этого вопроса также отнюдь не препятствует суду в дальнейшем рассматривать данное дело по существу. Конституционный Суд РФ указал, что предусмотренный ст. 448 УПК РФ особый порядок, в соответствии с которым возможность возбуждения уголовного дела в отношении соответствующих лиц или привлечения их в качестве обвиняемых обусловлена получением заключения суда о наличии или отсутствии в действиях этих лиц признаков преступления, означает проверку судом достаточности данных, необходимых для возбуждения уголовного дела, или правомерности выводов о наличии оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого, хотя и без предрешения выводов, которые могут содержаться только в приговоре или ином итоговом решении по делу12.
Конституционный Суд РФ высказывался также в том смысле, что необходимо гарантировать государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования и ограничения права на возмещение вреда лицу, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование прекращено на досудебной стадии уголовного процесса по реабилитирующим основаниям, но при этом не допускать ситуацию, при которой исключалась бы возможность отмены принятого на досудебной стадии постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования лица, если, как убеждается суд, были выявлены новые сведения о его виновности в совершении преступления и, соответственно, такая отмена необходима для восстановления справедливости и предупреждения совершения новых преступлений13. Эта правовая позиция была учтена и реализована законодателем. В частности, отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 125, 125.1 и 214.1 УПК РФ (ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ)14.
Однако для того чтобы признать постановление органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (по реабилитирующим основаниям) незаконным или необоснованным, судья должен как минимум рассмотреть вопрос о достаточности доказательств, подтверждающих первоначальное подозрение или обвинение.
Еще раньше15 аналогичный подход был продемонстрирован законодателем в ст. 125.1 УПК РФ, введенной во исполнение решения Конституционного Суда РФ16. Согласно этой статье при рассмотрении жалобы на постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 24 или ч. 3 ст. 27 УПК РФ, судья проверяет законность и обоснованность данного решения, а также на основании доводов, изложенных в жалобе, – законность и обоснованность актов о возбуждении уголовного дела, привлечении лица в качестве подозреваемого, обвиняемого и применении к нему мер процессуального принуждения, причем (что особенно важно!) путем исследования в ходе судебного заседания имеющихся в уголовном деле доказательств, свидетельствующих о фактических обстоятельствах уголовного дела, по правилам судебного следствия, установленным гл. 37 УПК РФ. Но в таком случае и рассмотрение судом обоснованности первоначального обвинения, то есть вопроса о том, мог ли обвиняемый совершить преступление, также не должно оказывать в последующем отрицательного воздействия на независимость и беспристрастность суда. Кроме того, коль скоро обвиняемый в силу презумпции невиновности считается невиновным до вступления в законную силу приговора суда, очевидно, он вправе на протяжении всего этого промежутка времени возражать против обратного утверждения. Состязательной формой рассмотрения такого возражения должна быть, в частности, судебная процедура обжалования первоначального обвинения.
С учетом сказанного вопрос о наличии события преступления и виновности может быть предметом рассмотрения судом в ходе контроля за органами предварительного расследования, однако лишь в сугубо предварительном и условном смысле, когда суд приходит к выводу о достаточности оснований для принятия этих решений, но отнюдь еще не констатирует доказанность виновности подозреваемого или обвиняемого. Только в том случае, если судья при проверке первоначального обвинения, изложенного в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, придет к заключению, что представленные стороной обвинения доказательства могут повлечь осуждение обвиняемого, – но только при условии подтверждения их допустимости и достоверности в будущем судебном разбирательстве – первоначальное обвинение должно быть признано обоснованным в степени доказанности prima facie, то есть убедительным на первый взгляд. И напротив, недостижение следователем указанного стандарта доказанности должно служить основанием для отмены постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Проверка судом обоснованности постановления о привлечении в качестве обвиняемого по жалобе стороны защиты еще в ходе предварительного расследования явится своего рода фильтром, позволяя предотвратить направление в суд дел с недостаточно обоснованным окончательным обвинением (обвинительным заключением либо обвинительным актом). Достоинство такого контроля заключается в том, что он соответствует конституционному принципу состязательности процесса и защищает участников от предъявления необоснованных обвинений.
Необходимо отметить, что в ряде зарубежных государств судебное оспаривание первоначального обвинения еще до того, как суд приступает к рассмотрению дела по существу, является вполне обычной практикой.
Так, во Франции в течение шести месяцев после привлечения лица в качестве обвиняемого, что называется «привлечение к рассмотрению» (mise en examen), оно вправе обжаловать в следственную палату апелляционного суда вопрос о признании или самой процедуры привлечения к рассмотрению, или предшествующих ей процессуальных действий недействительными. Если следственная пала- та с этим согласится, то лицо перестает быть «привлеченным к рассмотрению» и становится «ассистированным свидетелем» (ст. 174-1 УПК Франции)17.
В уголовном процессе США в ходе так называемой первой явки (initial appearance) по делам об опасных преступлениях магистрат разъясняет подозреваемому (если он не признает себя виновным или делает заявление, что будет оспаривать обвинение) его право на то, чтобы дело было подвергнуто предварительному слушанию по вопросу о наличии достаточных оснований обвинения (preliminary hearing, probable cause hearing), в ходе которого проводится судебная проверка законности и обоснованности обвинения, чтобы решить, стоит ли передавать его для окончательного судебного разбирательства18. Наличие такой предварительной судебной пробации обвинения способствует снижению нагрузки на суды первой инстанции. Так, по некоторым данным, в США после предварительного слушания прекращается от 5 до 15 % дел [11, с. 245].
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что не существует каких-либо неопровержимых теоретических аргументов против обжалования в суде постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого и рассмотрения судом его законности и обоснованности в порядке ст. 125 УПК РФ. При этом суд, вынося решение по жалобе, в случае оставления постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого в силе, тем не менее не должен предрешать вопрос о виновности обвиняемого. Средством для этого может служить его умозаключение, что лишь при подтверждении в ходе судебного разбирательства дела по существу допустимости и достоверности представленных для обоснования первоначального обвинения доказательств может быть вынесен обвинительный приговор.
Вместе с тем для максимально надежного обеспечения принципа независимости и беспристрастности судей предварительный судебный контроль за обоснованностью обвинения, равно как и за применением мер процессуального принуждения и т. п., следует поручить специализированным (следственным)
судьям, которые не участвуют в рассмотрении дел по существу, а в перспективе и выделенным в структуру, организационно обособленную от судов, осуществляющих рассмотрение дел по существу [12, с. 10–11].
Однако существующее в российском уголовном процессе на данный момент de lege lata регулирование создает труднопреодолимые препятствия для реализации права на судебное обжалование первоначального обвинения. Дело в том, что согласно ч. 2 ст. 171 УПК РФ в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от следователя не требуется указывать доказательства, которые обосновывают обвинение, как результат, этого никогда и не делается на практике. Однако отсутствие ссылки на доказательства в данном постановлении противоречит общему нормативному положению об обоснованности и мотивированности всех постановлений следователя (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Мотивированность же, собственно, означает «приведение в процессуальном акте его оснований», причем путем не только простой их констатации, а в сопровождении аргументации того, почему были отвергнуты все иные, противоречащие избранному, гипотетические основания [13, с. 33]. Но именно доказательства, по букве ч. 1 ст. 171 УПК РФ, «дают основания для обвинения лица в совершении преступления». Их сокрытие очевидным образом затрудняет реализацию права обвиняемого на защиту, ибо если лицо уведомляют лишь о том, о каком преступлении идет речь в постановлении, однако отказываются сообщать, откуда появились сведения о его к нему причастности, опровергать такое обвинение трудно, если вообще возможно.
В международном праве неизменно признается право обвиняемого «быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения» (подп. «а» п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах). Принимая во внимание главенство общепризнанных международно-правовых норм перед уголовно-процессуальным законодательством, необходимо признать и обязанность следователя приводить хотя бы основные доказательства виновности в своем постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Выводы
-
1. В российском уголовно-процессуальном законодательстве при разрешении ряда вопросов (применение мер пресечения, проверка обоснованности прекращения уголовного дела и т. д.) прослеживается тенденция расширения полномочий судебного контроля над предварительным расследованием в части проверки обоснованности подозрения или обвинения в совершении преступления. Предполагается, что это не препятствует независимости и беспристрастности суда и не означает предрешения им вопроса о виновности подозреваемого или обвиняемого.
-
2. Проверка судом фактической обоснованности обвинения в ходе предварительного расследования также не означает предрешения вопроса о виновности, когда вывод о причастности лица к совершению преступления имеет характер предварительный и делается под условием, что представленные стороной обвинения доказательства найдут подтверждение в будущем, то есть в ходе судебного разбирательства данного дела по существу.
-
3. Предварительный судебный контроль за обоснованностью первоначального обвинения может иметь следующие положительные последствия: а) повышение качества расследования и исключение так называемых дежурных обвинений, поскольку должен соблюдаться стандарт доказанности в степени prima facie, понимаемый как достоверный вывод о виновности обвиняемого с точки зрения следователя, сделанный, однако, еще до того момента, когда будет выслушана и другая сторона; б) защита привлекаемого к уголовной ответственности лица от необоснованного обвинения; в) сокращение количества направляемых в суд дел с обвинительными заключениями.
-
4. Контроль суда за обоснованностью и законностью обвинения станет существенным шагом на пути состязательного преобразования стадии предварительного расследования и максимально полной реализации тем самым конституционного требования о состязательном построении всех видов судопроизводства в Российской Федерации (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ).
-
5. Наиболее полно такой судебный контроль может быть реализован при условии соответствующей специализации судей и введении института следственного судьи.
Список литературы К вопросу о правомерности судебного обжалования первоначального обвинения в ходе предварительного расследования
- Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел / Н.В. Жогин. – Москва, 1968. – 264 c.
- Ефремова Н.П. Привлечение в качестве обвиняемого: учебно-практическое пособие / Н.П. Ефремова, В.В. Кальницкий. – Омск: Омская академия МВД России, 2007. – 107 c.
- Борков В.Н. Уголовно-правовые и процессуальные аспекты незаконного освобождения от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) / В.Н. Борков, Б.Б. Булатов, А.В. Борбат // Российский следователь. – 2022. – № 8. – С. 40–45.
- Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / Е.К. Антонович, Т.Ю. Вилкова, Л.М. Володина и др. ; отв. ред. Л.Н. Масленникова. – Москва, 2022. – 448 с.
- Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность / Л.М. Карнеева. – Москва, 1971. – 136 с.
- Чельцов М.А. Советский уголовный процесс / М.А. Чельцов. – Москва, 1962. – 503 с.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. / М.С. Строгович. – Москва, 1970. – Т. 2. – 616 с.
- Алексеев Н.С. Ленинские идеи в советском уголовном судопроизводстве (возбуждение дела и предварительное расследование) / Н.С. Алексеев, В.З. Лукашевич. – Ленинград, 1979. – 199 с.
- Колбеева М.Ю. Институт предъявления обвинения: актуальные проблемы его совершенствования / Б.Я. Гаврилов, М.Ю. Колбеева // Российский следователь. – 2009. – № 15. – C. 35–37.
- Арсеньев В.Д. Об обоснованности обвинения и толковании сомнений в пользу подсудимого / В.Д. Арсеньев // Советская юстиция. – 1970. – № 19. – С. 14–17.
- Головко Л.В. Уголовный процесс западных государств / Л.В. Головко, К.Ф. Гуценко, Б.А. Филимонов ; под ред. К.Ф. Гуценко. – Москва, 2001. – 470 c.
- Смирнов А.В. Институт следственных судей – конституционное требование? / А.В. Смирнов // Уголовное судопроизводство. – 2015. – № 2. – С. 9–14.
- Мишин В.В. Обоснованность и мотивированность как требования, предъявляемые к процессуальным решениям / В.В. Мишин // Российский судья. – 2019. – № 11. – С. 32–36.