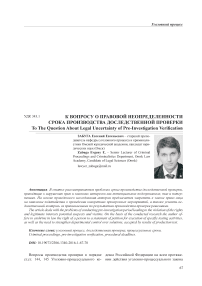К вопросу о правовой неопределенности срока производства доследственной проверки
Автор: Забуга Евгений Евгеньевич
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 1 (30), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы срока производства доследственной проверки, приводящие к нарушению прав и законных интересов как потенциальных подозреваемых, так и потерпевших. На основе проведенного исследования автором предлагается закрепить в законе право лица на заявление ходатайства о проведении конкретных проверочных мероприятий, а также усилить ведомственный контроль за принимаемыми по результатам производства проверки решениями.
Уголовный процесс, доследственная проверка, процессуальные сроки
Короткий адрес: https://sciup.org/14317735
IDR: 14317735 | УДК: 343.1 | DOI: 10.19073/2306-1340-2016-1-67-70
Текст научной статьи К вопросу о правовой неопределенности срока производства доследственной проверки
Вопросы производства проверки в порядке декса Российской Федерации на всем протяже-ст.ст. 144, 145 Уголовно-процессуального ко- нии действия уголовно-процессуального закона являются одними из наиболее обсуждаемых в юридической науке, они находятся в поле зрения и отечественного законодателя, неоднократно вносившего изменения в главу 19 УПК РФ.
Внимание к институту производства дослед-ственной проверки совершенно обоснованно, поскольку с каждым годом увеличивается количество зарегистрированных сообщений о преступлениях, большая часть которых разрешается вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, рассматриваемый институт является своеобразным фильтром, прохождение которого в подавляющем большинстве случаев позволяет возбуждать уголовные дела при наличии обоснованных подозрений в отношении конкретного лица либо по факту совершения преступления.
Еще 12 лет назад, спустя год после вступления в силу нового УПК РФ, уважаемые ученые называли стадию возбуждения уголовного дела реликтом «социалистической законности» [2]. Полемика не прекращается и по сей день.
Безусловно, как в целом по указанному институту, так и в частности по отдельным его составляющим можно проводить отдельные монографические исследования, выдвигать конкретные предложения по его совершенствованию. Однако мы ограничимся вопросом срока дослед-ственной проверки, по нашему мнению, очень важным, поскольку любая процедура и процесс в целом имеют четко регламентированные законом сроки.
На первый взгляд, анализ ст. 144 УПК РФ демонстрирует простоту юридической техники в части установления срока, формула «3–10– 30 суток» представляется четкой и понятной.
Однако в связи с тем, что законодатель в последние годы развития отечественного уголовного процесса пошел по пути расширения проверочных средств в стадии возбуждения уголовного дела, закрепив в УПК РФ возможность производства нескольких следственных действий до возбуждения уголовного дела, до-следственная проверка, по сути, стала одной из составляющих механизма уголовного преследования.
Избранный законодателем путь «расширения» в целом достаточно негативно воспринят учеными-процессуалистами, обоснованно отмечающими его слабые стороны.
Как справедливо говорит В. В. Кальницкий, «противоречивым выглядит расширение прове- рочных средств в стадии возбуждения уголовного дела за счет отнесения к ним все большего числа следственных действий. Противоречие в том, что одновременно происходят плохо согласующиеся процессы по предоставлению участникам судопроизводства дополнительных прав при проведении следственных действий и переносу этих же следственных действий в правовое поле, на котором полноценная реализация прав всех заинтересованных лиц ввиду отсутствия условий сомнительна. Нужны нормы, адаптирующие проверочные следственные действия к субъектному составу стадии, ее срокам, ограниченному принудительному потенциалу (если такая адаптация в принципе возможна без риска потерять содержание производимого действия и снизить достоверность его результатов). Практические работники плохо представляют, как реально обеспечить участникам проверочного следственного действия те права, которые этим действием затрагиваются (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ). Может быть, в таком случае не девальвировать развитую процессуальную форму следственных действий, а детально урегулировать их проверочные аналоги? Мы же сначала развиваем процессуальную форму конкретного познавательного приема, переводим его в ранг следственного действия… тем самым исключаем применение в начальной стадии и в качестве розыскного действия по приостановленному делу, а потом решаем проблему, каким образом это действие “приспособить” ко всем этапам судопроизводства с учетом его значительного потенциала» [3, с. 38].
Схожей позиции придерживаются и другие авторы [6].
Однако в практической деятельности следователям, дознавателям и органам дознания приходится работать с существующими инструментами, что приводит к применению линейки процессуальных средств (главным образом следственных действий) к лицам, не имеющим официального статуса подозреваемого, между тем по существу таковыми являющимся еще до момента возбуждения уголовного дела.
При изучении материалов доследственных проверок и уголовных дел достаточно часто приходится наблюдать, что до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в среднем три и более раз (в некоторых случаях – восемь-десять раз!) выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые в последующем отменялись.
При этом постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в резолютивной части содержали различные формулировки, которые совершенно не согласуются с нормами УПК РФ, что недопустимо. Так, например, органы внутренних дел достаточно часто используют следующую формулировку: «Отказать в возбуждении уголовного дела… Ходатайствовать перед начальником (с указанием подразделения) об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела». Мотивировочные части таких постановлений содержат указание на недостаточность срока для принятия законного решения.
В результате такой практики нарушаются не только права лица, являющегося потенциальным подозреваемым, но и конституционное право потерпевшего на доступ к правосудию – из-за волокиты в принятии решения о начале восстановления его нарушенных прав.
Однако только этим нарушением закона практика не ограничивается. Часто наступают и более существенные негативные последствия, так как истинной целью дополнительной проверки во многих случаях выступает не нужда в установлении признаков преступления, а поиск возможных, в основном надуманных, оснований для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела [4].
В рассматриваемой ситуации, следует оговориться, органы предварительного расследования могут преследовать и благие намерения, например, установление большего количества лиц, входящих в преступную группу, для их последующего одновременного задержания, это зависит от усмотрения следователя [5] и может способствовать более качественному расследованию сложного уголовного дела [7].
Но, как указано выше, в большинстве случаев вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с последующей отменой последних является не чем иным, как волокитой, неправильной организацией работы и элементарным нежеланием качественного проведения доследственной проверки.
Проиллюстрируем это ярким примером, приведенным уважаемыми авторами.
В отделение милиции № 2 УВД по г. Кургану 12 октября 2010 г. обратилась Е-ва М. с заявлением об исчезновении своего сына Е-ва Ю., проживавшего в деревне Костоусово Кетовского района Курганской области, о местонахожде-
Уголовный процесс нии которого ей не было известно с 15 августа 2010 г.
В ОВД по Кетовскому району Курганской области 17 декабря 2010 г. обратилась К-ва М. с заявлением об исчезновении своей сестры К-вой И.; заявительница указала, что в начале августа 2010 г. сестра уехала на автомобиле вместе со своим сожителем и неизвестными людьми, при этом ей известно, что сожитель был должен кому-то деньги.
Вплоть до 12 октября 2011 г. указанные заявления о безвестном исчезновении двух граждан находились в производстве ОВД по Кетовскому району, где по ним по различным основаниям выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Только 12 октября 2011 г., то есть спустя год с момента подачи первого заявления, прокуратурой Кетовского района материалы проверки по заявлениям об исчезновении Е-ва Ю. и К-вой И. были направлены для проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ в Кетовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Курганской области. Изучение материалов показало, что Е-в Ю. и К-ва И. были сожителями и пропали в один день при схожих обстоятельствах, поэтому материалы проверки были соединены в одно производство. Следователи в течение двух недель установили криминальный характер их исчезновения, и 31 октября 2011 г. по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ [1].
Указанный пример ярко демонстрирует волокиту и нежелание правоохранительных органов исполнять возложенные на них обязанности.
Однако нередко наблюдаются и неоднократные отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по формальным основаниям, в целях повышения статистических показателей.
Так, например, постановление следователя Курчатовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Курской области об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Ч., скончавшегося вследствие ишемической болезни сердца, отменялось прокурором в связи с необходимостью приобщения к материалам проверки амбулаторной карты Ч. в целях установления факта обращения умершего за медицинской помощью по поводу сердечнососудистых заболеваний, а также для проверки версии о криминальном характере смерти последнего в связи с желанием родственников получить в наследство имущество Ч.
А. Багмет и Ю. Цветков это комментируют так: «Данный пример указывает на то, что желание прокурора под любым предлогом отменить решение следователя настолько велико, что он игнорирует даже такую простую юридическую истину, что независимо от того, сколько людей имело мотив желать смерти покойного, никакого правового значения это не имеет, если смерть наступила в результате естественных причин» [1, с. 17].
Все приведенные выше примеры иллюстрируют одно обстоятельство: установленный в УПК РФ срок производства доследственной проверки по формуле «3–10–30» не является пресекательным, поскольку проверка может быть проведена неограниченное количество раз. В связи с этим материал проверки становится б о льшим по фактическому объему, чем материалы уголовного дела, при этом невозможно реализовать право на защиту «потенциального подозреваемого», а также права на разумный срок защиты лиц, потерпевших от преступлений, что не способствует реализации принципа правовой определенности.
Выходом из сложившейся ситуации являются следующие действия.
Первое (на законодательном уровне). Необходимо закрепить в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ права «потенциального подозреваемого», а также лица, потерпевшего от преступления, на заявление ходатайств о проведении конкретных проверочных мероприятий, а также об истребовании необходимых для подтверждения их позиций предметов и документов, которые они не могут получить самостоятельно .
Второе (на ведомственном уровне). Усилить процессуальный контроль за принимаемыми по результатам доследственной проверки решениями, а также установить персональную ответственность лица, ее проводящего, за необоснованное вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Руководителям следственных органов, а также прокурорам следует не допускать случаев продления срока доследственных проверок при отсутствии на то конкретных причин .
Указанные предложения являются частным мнением автора. Всех заинтересованных в рассматриваемом вопросе лиц приглашаем к дискуссии.
Список литературы К вопросу о правовой неопределенности срока производства доследственной проверки
- Багмет, А. М. Кто боится сильного следствия?/А. М. Багмет, Ю. А. Цветков//Юрид. мир. -2015. -№ 2. -С. 13-18.
- Деришев, Ю. В. Стадия возбуждения уголовного дела -реликт «социалистической законности»/Ю. В. Деришев//Рос. юстиция. -2003. -№ 8. -С. 34-36.
- Кальницкий, В. В. Вопросы правовой регламентации следственных действий на современном этапе/В. В. Кальницкий//Законы России: опыт, анализ, практика. -2015. -№ 2. -С. 32-38.
- Каретников, А. С. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела?/А. С. Каретников, С. А. Коретников//Законность. -2015. -№ 1. -С. 41-46.
- Марфицин, П. Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект): автореф. дис.. д-ра юрид. наук:/П. Г. Марфицин. -Омск, 2003. -418 c.
- Мешков, М. В. Уголовно-процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования/М. В. Мешков, В. В. Гончар//Мировой судья. -2015. -№ 4. -С. 14-18.
- Смирнова, И. С. Производство по сложному уголовному делу на досудебных стадиях: моногр./И. С. Смирнова. -М.: Юрлитинформ, 2015. -224 c.