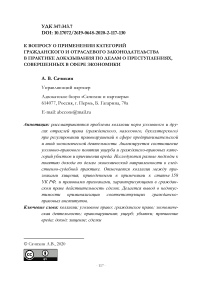К вопросу о применении категорий гражданского и отраслевого законодательства в практике доказывания по делам о преступлениях, совершенных в сфере экономики
Автор: Сачихин А.В.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются проблемы коллизии норм уголовного и других отраслей права (гражданского, налогового, бухгалтерского) при регулировании правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Анализируется соотношение уголовно-правового понятия ущерба и гражданско-правовых категорий убытков и причинения вреда. Исследуются разные подходы к понятию дохода по делам экономической направленности в следственно-судебной практике. Отмечается коллизия между признаками хищения, приведенными в примечании к статье 158 УК РФ, и правовыми признаками, характеризующими в гражданском праве действительность сделок. Делается вывод о недопустимости криминализации соответствующих гражданско-правовых институтов.
Коллизии, уголовное право, гражданское право, экономическая деятельность, правонарушения, ущерб, убытки, причинение вреда, доход, хищение, сделки
Короткий адрес: https://sciup.org/147226713
IDR: 147226713 | УДК: 347:343.7 | DOI: 10.17072/2619-0648-2020-2-117-130
Текст научной статьи К вопросу о применении категорий гражданского и отраслевого законодательства в практике доказывания по делам о преступлениях, совершенных в сфере экономики
С овременные тенденции формирования стереотипов упрощенного доказывания по делам экономической направленности в деятельности правоохранительных органов вызывают озабоченность бизнес-структур, уполномоченного по защите прав предпринимателей, практикующих в данной сфере адвокатов, ученых-юристов и других представителей юридического сообщества. В частности, в правоприменительной деятельности имеют место факты игнорирования конкретных обстоятельств, необходимость доказывания которых предусмотрена статьей 73 УПК РФ1. Одна из причин такой практики – отсутствие механизмов своевременной адаптации следственных структур и судебных органов к постоянно меняющимся в рыночных условиях экономическим и правовым моделям взаимоотношений участников хозяйственного оборота, в то время как использование типовых форм обвинения и стереотипов доказывания исключает необходимость следственной и судебной проверки действительного содержания их намерений.
Так, сложившаяся в настоящее время следственно-судебная практика позволяет говорить как уже об устоявшейся тенденции об использовании в делах экономической направленности искаженного содержания целых правовых категорий как гражданского, так и других отраслей законодательства путем придания им сугубо прикладного толкования.
Исторически сложившиеся формы взаимодействия норм уголовного и гражданского права в этой области, выделяемые в правовой литературе (воздействие на одни и те же объекты регулирования, установление для участников хозяйственного оборота границ и правил законопослушного поведения, использование в них сходных фактических составов деяний, прямое заимствование понятий, применение бланкетных правовых норм2), с некоторых пор перестали быть актуальными.
В течение нескольких последних лет адвокатское сообщество фиксирует в качестве одной их главных проблем уголовного правоприменения в сфере экономической деятельности не только нетипичное для гражданского права толкование следственно-судебной практикой конкретных понятий и терминов, но и искажение общего содержания существующих гражданско-правовых институтов.
Эта проблема заключается в применении в уголовном праве ряда категорий гражданского права в значении, не согласующемся с их правовой природой, и в отступлении от первоначального смысла исходных норм.
Возникающие при этом межотраслевые коллизии и, как следствие, межотраслевая конкуренция порождают довольно сомнительные и трудно воспринимаемые на практике подходы к квалификации уголовно-правовых деяний, вызывая тем самым ее непредсказуемость и нестабильность3.
Например, по делам экономической направленности наибольшее количество претензий в адвокатской среде предъявляется к применяемому следственными подразделениями и судами толкованию понятия ущерба, экономическое и сущностное основание которого создают гражданско-правовые категории убытков и причинения вреда (п. 2 ст. 15, п. 1 ст. 1064 ГК РФ)4.
При этом подлинное содержание данных понятий в гражданском праве включает в качестве обязательного элемента необходимость обоснования реальности ущерба. В частности, отражение расходов, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, либо отражение фактов, подтверждающих утрату или повреждение его имущества, а в части упущенной выгоды – обоснование величины доходов, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота.
Однако именно эти обязательные элементы, характеризующие гражданско-правовую категорию убытков, как правило, опускаются при его использовании в уголовном праве.
Игнорирование классического содержания перечисленных выше категорий на практике зачастую приводит к малопонятным псевдоправовым конструкциям, которые не только искажают смысл и цели правосудия, но и вызывают сомнения в соответствии правосудия требованиям справедливости, а также в возможности обеспечить эффективное восстановление в правах.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 8 декабря 2003 г. № 18-П, в рамках уголовного судопроизводства справедливое правосудие предполагает по меньшей мере установление на основе исследованных доказательств обстоятельств происшествия, в связи с которыми было возбуждено уголовное дело, его правильную правовую оценку, выявление конкретного вреда, причиненного обществу и отдельным лицам, и действительной степени вины лица в совершении инкриминируемого ему деяния5.
Кроме того, следует иметь в виду, что перечисленные выше требования и составляют непосредственное содержание обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ и подлежащих доказыванию по делам о преступлениях, совершенных в сфере экономики.
В частности, речь идет о прямо предусмотренной законом обязанности установления и отражения в обвинительном суждении конкретных обстоятельств, указывающих на характер и размер вреда, причиненного преступлением.
Примером применения подобной псевдоправовой конструкции ущерба является уголовное дело по обвинению Г. в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ, рассмотренное одним из судов Пермского края.
Содержание обвинения Г. сводилось к причинению им имущественного ущерба собственнику второй доли в праве на сложный объект энергетического комплекса путем уклонения от выплаты ему пропорциональной доле части всех денежных поступлений, полученных от своих контрагентов юридическим лицом, всего лишь использовавшим в своей экономической деятельности сложный объект в целом без оформления соответствующих договорных отношений.
Вместо классического подхода к содержанию гражданско-правового понятия ущерба, представляющего собой в данном случае размер расходов, которые лицо, чье право было нарушено, произвело или должно было бы произвести для восстановления нарушенного права, либо размер объективно неполученных им доходов, которые это лицо обязательно получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода), органы следствия и прокуратуры предложили суду малопонятную конструкцию, в соответствии с которой со ссылкой именно на действующее гражданское законодательство России признали обоснованными претензии собственника доли в недвижимом имуществе на соответствующую часть всей выручки юридического лица.
Попытки убедить следователя и прокурора в явном искажении содержания гражданско-правового понятия, характеризующего предмет данного преступления и представляющего собой исключительно имущественную выгоду потерпевшей стороны, т. е. конкретный размер приращения ее имущества, ни к чему не привели.
Без должного внимания при этом осталась правовая позиция Верховного Суда РФ, изложенная в Постановлении Пленума «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30 ноября 2017 г. № 48. Согласно этой позиции, при решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, по делу необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, т. е. неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием (п. 22)6.
Следует отметить, что данное уголовное дело изобилует и другими вольными трактовками не только гражданского и отраслевого законодательства об электроэнергетике, но и общих принципов гражданского права, в частности содержит утверждение об абсолютности и исключительности права частной собственности в целях уголовного преследования.
Складывается впечатление, что выраженная Конституционным Судом РФ в Постановлении от 17 декабря 1996 г. № 20-П правовая позиция о том, что «право частной собственности не является абсолютным и не принадлежит к таким правам, которые в соответствии со статьей 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации не подлежат ограничению ни при каких условиях» (п. 2)7, в данном деле для правоохранителей оказалась невыгодной.
Возможность ограничения прав собственника в отношении его имущества непосредственно отражена в пункте 2 статьи 209 ГК РФ. Согласно этому пункту собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, но только те, которые не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц8.
Как мы видим, приведенное в качестве примера уголовное дело подтверждает наши высказывания о тенденции увеличения количества межотраслевых коллизионных столкновений при использовании правоохранительными органами норм гражданского законодательства в практике расследования дел экономической направленности.
При этом нельзя сказать, что судебная практика предлагает нам какой-либо иной путь разрешения межотраслевых коллизий при рассмотрении дел данной категории.
Так, следующая часто встречающаяся в этой сфере межотраслевая коллизия представляет собой наличие разных подходов к понятию дохода, хотя его содержание изначально не связано с гражданским правом, а вытекает из публичных отношений и регламентировано требованиями налогового законодательства (ст. 41 НК РФ)9.
Согласно указанной норме доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.
Следует отметить, что данная категория довольно широко используется в качестве обязательного элемента в различных процедурах применения уголовного наказания.
Будет достаточным упомянуть, что понятие дохода в крупном размере рассматривается в качестве квалифицирующего признака, в частности, в статьях 171–172 УК РФ (в рамках нашего исследования обозначим его как преступный доход)10.
При этом само содержание данной категории в уголовном праве действительно допускает различные толкования, вытекающие из норм гражданского, налогового и бухгалтерского законодательства, поэтому требует дополнительной конкретизации в уголовном законе.
В то же время вряд ли кто-либо будет отрицать, что одним из наиболее актуальных направлений противодействия со стороны государства преступности в экономической сфере стала активизация выявления лиц, занимающихся использованием безналичных расчетов для вывода наличных денежных средств как в легальный, так и в теневой оборот.
Наверное, не стоило бы говорить о массовости этого явления именно в последнее время, если бы оно в следственной и судебной практике не превратилось в источник профессиональной и организованной преступности. Это в целом вызывает у граждан обоснованные сомнения в юридическом сообществе.
Казалось бы, как связано отраслевое понятие дохода в уголовноправовом смысле с массовым выявлением ОПС (ОПГ), якобы действующими в этой сфере криминальной активности?
В связи с этим вызывает обеспокоенность следственно-судебная практика, которая сформулировала сугубо утилитарное понятие преступного дохода путем искаженного толкования соответствующих категорий гражданского и отраслевого (в частности, банковского) законодательства.
Для выявления преступных сообществ, занимающихся обналичиванием денежных средств, в качестве квалифицированного дохода на практике принимается определенный процент комиссионного вознаграждения от всего объема денежных поступлений в распоряжение подконтрольных им юридических лиц. Причем логическое обоснование именно такой формы преступного дохода и его экономические признаки в следственно-судебной практике так и не сформулированы.
При этом вновь созданное и широко применяемое толкование преступного дохода категорически не совпадает с устоявшимися в настоящее время правовыми моделями его определения.
Так, первая модель сводится исключительно к форме «чистого» дохода (учитывает реально произведенные затраты), который непосредственно получает (приращивает на его размер свое имущество) виновное лицо.
Применение данного подхода одобрено и международным сообществом. В частности, согласно статье 1 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. под термином «доход» понимается любая экономическая выгода, полученная в результате совершения преступлений, т. е. конкретное приращение своего имущества совершивших их лицом11.
Аналогичные критерии преступного дохода приведены в статье 3 Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ12.
В данном случае мы видим, что и российское законодательство и нормы международного права в понятие первой модели преступного дохода вкладывают содержание, идентичное содержанию этого понятия в налоговом законодательстве, т. е. отраслевом.
Под второй формой преступного дохода следует понимать общий (валовый) доход, который поступает в распоряжение лица без вычета произведенных им расходов, понесенных при осуществлении незаконной хозяйственной деятельности.
Применение этого метода рекомендовано Верховным Судом РФ в отношении лиц, обвиняемых как раз в незаконном предпринимательстве (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» от 18 ноября 2004 г. № 23)13.
Казалось бы, алгоритмы расчета размера преступного дохода в целях использования данной категории в уголовно-процессуальной практике уже предложены, вопрос заключается лишь в выборе направления.
Однако ни один из вышеуказанных подходов фактически в следственно-судебной практике в настоящее время не применяется. Вместо этих подходов используется, как ранее было сказано, некая методологически необоснованная модель, представленная в виде процента от валового дохода (выручки) субъекта предпринимательской деятельности, которая сразу же вызы- вает сомнения в состоятельности, поскольку незаконно полученным доходом в этом случае признается лишь часть от всей незаконно полученной выручки.
Ответа на вопрос о том, является ли оставшаяся большая часть незаконно полученной выручки подконтрольного лица его легальным доходом, ни следствие, ни суд не дают.
За пределами какой-либо мотивации с их стороны остается также вопрос о том, по какой причине не предпринимается даже попыток вычленить из общего объема операций такого юридического лица только те, которые действительно являются бестоварными, в целях определения реального размера полученного виновными лицами преступного дохода. Любые сомнения защиты по этому поводу во всех случаях остаются без внимания.
Полагаем, что данный подход, несмотря на его очевидную нелогичность и натянутость, имеет исключительно прагматическую цель: классическое обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, при любом исходе не ведет к участию в нем преступного сообщества (преступной организации), в то время как обвинение по статье 172 УК РФ для этого вполне подходит.
Вычленение же реальных хозяйственных операций при этом для определения фактического размера преступного дохода вполне может помешать выявлению очередного преступного сообщества.
В качестве дополнительного аргумента отметим, что еще в недавнем прошлом криминальная активность, связанная с обналичиванием денежных средств под вымышленными основаниями платежей, с использованием схемы перечисления денежных средств в банк и получения денежных средств со счетов подставных фирм, оформленных на номинальных генеральных директоров, не осведомленных об указанной преступной деятельности, совершенная с использованием отдельных реквизитов банковской деятельности, судами чаще всего квалифицировалась именно как незаконное предпринимательство, а не как незаконная банковская деятельность, являющейся специальным составом по отношению к незаконному предпринимательству. В частности, такой вывод был сделан Преображенским районным судом г. Москвы (приговор от 11 ноября 2014 г. по уголовному делу № 1-841/14)14.
Мы коснулись всего лишь двух примеров межотраслевых коллизий, результатом которых является искажение следственно-судебной практикой реального содержания гражданско-правовых категорий и норм отраслевого законодательства.
Однако наиболее опасной в юридической литературе принято считать скрытую в уголовном праве коллизию между признаками хищения, приведенными в примечании к статье 158 УК РФ, и правовыми признаками, характеризующими в гражданском праве действительность сделок15.
Как ни странно, в реальности едва ли не каждый признак принятого в уголовном праве понятия хищения противоречит смыслу и правовому содержанию корреспондирующих норм гражданского законодательства.
В первую очередь понятие имущества в уголовном законе не совпадает с его гражданско-правовым понятием. В частности, уже нередкими являются случаи, когда предметом преступного посягательства выступают криптовалюты и иные выраженные в электронной форме активы, правовое и экономическое содержание которых еще в целом не сформировано.
Оценка различий между вещными правами и требованиями, вытекающими из обязательств, также вызывает серьезные затруднения при формировании круга обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. В частности, нам пришлось столкнуться с ситуацией, когда в деле по обвинению К. объектом преступного посягательства (по версии следствия и суда) выступили права требования кредиторской задолженности к предприятию, находящемуся в стадии конкурсного производства. Причем из постановленных судебных актов следует, что виновным лицом у предприятия были похищены права требования к самому предприятию, т. е. его обязательства перед своими кредиторами.
С точки зрения правового содержания категорий гражданского законодательства сформулированное обвинение, подкрепленное судебными актами, выглядит как правовой нонсенс, поскольку кредиторская задолженность юридического лица представляет собой его долговые обязательства, которые в соответствии с нормами гражданского и бухгалтерского законодательства имуществом предприятия не являются, следовательно, похитить долги предприятия у него самого невозможно. Более того, для должника вообще не имеет юридического значения, кто является его кредитором, если обязанность по возврату долга не связана с личностью кредитора (cт. ст. 383, 388 ГК РФ)16.
Еще одним примером межотраслевой коллизии в уголовном праве следует также признать наличие в качестве субъективной стороны имущественного преступления корыстной цели, интеллектуальное содержание которой в деловой среде по смыслу совпадает с целью получения прибыли и является логичной для лица, занимающегося хозяйственной деятельностью.
Подобное суждение можно привести и в отношении категории безвозмездности, которая в уголовно-правовой доктрине понимается как отсутствие эквивалента при совершении возмездной сделки. Такая конструкция отношений сторон широко применяется в гражданском обороте.
В связи с этим считаем возможным особо отметить определенную тенденцию следственных и судебных органов, заключающуюся в том, что во многих случаях они усматривают хищение там, где происходит продажа юридическим лицом своего имущества по ценам, сопоставимым с его балансовой стоимостью и отличающимся от рыночных.
В правовой литературе по этому поводу высказывается мнение о том, что предложенное уголовным законом понятие хищения рассчитано лишь на исторически традиционные формы: кражу, мошенничество либо разбой, в которых его признаки, подкрепленные причинением ущерба, достаточны для формирования его в качестве преступного поведения17.
В то же время в современном хозяйственном обороте между юридическими лицами, иными субъектами предпринимательской деятельности либо в процессе управления их имуществом складываются экономически сложные, нестандартные, нетипичные взаимоотношения, при реализации которых достаточно непросто говорить об общественной опасности того или иного факта их деловой активности.
Реальность такова, что даже в целях формирования вытекающих из современного делового оборота налоговых обязательств для законодателя оказалось недостаточным использование существующего понятия добросовестности, осторожности и осмотрительности и потребовалось внесение соответствующих корректировок в налоговое законодательство (ст. 54.1 НК РФ)18.
Сложившаяся у правоохранительных органов убежденность в том, что цена реализации имущества юридического лица во всех случаях должна превышать его балансовую, а в идеале и кадастровую стоимость и во всех случаях – рыночную стоимость его имущества, привела к возбуждению немалого количества уголовных дел экономической направленности.
Вместе с тем установление рыночной цены, определенной даже по результатам проведения профессиональной оценки, совершенно не означает, что реализация указанного имущества по иной цене свидетельствует о причинении убытков (ущерба) продавцу, поскольку выгодность для него условий той или иной сделки не определяется только ценой продажи имущества.
Целью совершения сделки на предложенных условиях также может быть выход на рынок другого региона, создание конкурентных преимуществ, избавление от непрофильных активов, сокращение расходов и т. п. Однако эти цели следственно-судебной практикой, как правило, произвольно игнорируются, и приоритетность гражданско-правового и налогового подхода в части правовой оценки их экономических последствий чаще всего подменяется уголовно-карательными мерами.
Причем ничего удивительного в таком подходе нет, поскольку приоритет уголовного и уголовно-процессуального над иным отраслевым законодательством прямо декларируется правоохранительной и судебной системами.
Так, еще в Постановлении от 21 декабря 2011 г. № 30-П Конституционный Суд РФ указал, что преюдициальность судебного решения не может быть абсолютной и имеет определенные, установленные процессуальным законом пределы. Несмотря на то что речь в этом постановлении идет лишь об отличающихся императивах доказывания в различных формах судопроизводства, это на практике привело к тому, что после вынесения приговора по уголовному делу ни арбитражный суд, ни суд общей юрисдикции не стремятся устанавливать обстоятельства, отнесенные к их компетенции, особенно когда речь идет об экономических составах преступлений19.
Приходится констатировать, что в настоящее время влияние уголовного закона (влияние на что?) в качестве специфического регулятора деловой бизнес-среды на фоне возбуждения уголовных дел экономической направленности неоправданно усилилось.
Следует заметить, что в правоохранительной среде постоянно возникают все новые и новые идеи криминализации очередных гражданско-правовых институтов.
Таким образом, несмотря на мнение ряда ученых, адвокатов, представителей бизнес-сообщества, в правоприменительной деятельности усиливается трансформация уголовного закона именно в экономической сфере, что вызывает у вышеназванных представителей стойкое отрицание этого закона, особенно в части складывающейся модернизации толкования категорий гражданского и отраслевого законодательства, которая принципиально осложня- ется, когда их принадлежность, т. е. правовая природа, однозначно не определена уголовно-правовой нормой20.
В частности, какого-либо разумного объяснения приданию криминального характера действиям участников бизнес-сообщества путем преднамеренного неисполнения ими договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5–6 ст. 159 УК РФ) ни законодателем, ни правовой доктриной до настоящего времени не дано.
Критерии отличия указанных действий от недобросовестного поведения сторон, в гражданском правоотношении подпадающего под категорию злоупотребления правом, предусмотренную статьей 10 ГК РФ, фактически не установлены.
В результате приходится отмечать практически неограниченный уровень персонального усмотрения представителей правоохранительной сферы, что, в свою очередь, ведет к усилению правовой неопределенности в целом, а значит, к нарушению принципа верховенства закона.
Отсутствие судебного прецедента в качестве источника права в действующей в России правовой системе и довольно вялая реакция правоохранительных органов и судов общей юрисдикции на правовые позиции Верховного Суда РФ в области толкования межотраслевых коллизий свидетельствуют о необходимости усовершенствования именно законодательной техники в целях исключения потенциальной возможности вмешательства уголовного закона в регулирование гражданских правоотношений.
Думается, что в основе законодательного закрепления объективных критериев разграничения сходных правовых ситуаций, имеющих одновременно признаки как уголовных, так и гражданско-правовых институтов, должна лежать в первую очередь их зависимость от степени соблюдения участниками предписанного законом поведения.
В частности, применение уголовного закона в качестве специфического регулятора сходных правоотношений представляется обоснованным лишь в случае, если в фактическом деянии обнаруживаются признаки поведения сторон, явно выходящего за пределы установленного гражданским законодательством, например: использование сфальсифицированных (подложных) документов, привлечение юридических лиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, и т. п.
Полагаем, что в иных ситуациях восстановление нарушенного права должно осуществляться преимущественно путем применения норм гражданского и иного отраслевого законодательства.
Список литературы К вопросу о применении категорий гражданского и отраслевого законодательства в практике доказывания по делам о преступлениях, совершенных в сфере экономики
- Дубовик О. Л. Кризис уголовного права в уголовно-правовой теории // Право и политика. 2001. № 2.
- Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая литература, 1972.
- Матузов Н. И. Теория государства и права. М.: Юристъ, 1997.
- О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // https//poisk-rus5996t13.html (дата обращения: 25.12.2019).
- Теоретические основы соотношения норм уголовного и гражданского права. URL: http://uristrus.narod.ru/artices2/Selifonon.Teoreti4_osnovi_sootnowrnia_norm.pdf (дата обращения: 25.12.2019).